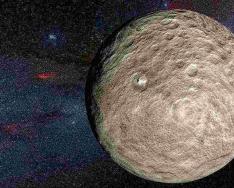Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (родился в Санкт-Петербурге 8 февраля (20 февраля) 1852 года, умер там же, 27 ноября (10 декабря) 1906 года) - русский писатель.
Отец писателя, Михайловский Георгий Антонович, происходил из херсонских дворян, служил в уланах. Во время Венгерской компании 25 июля 1849 года отличился в битве под Германштадтом, произведя атаку каре венгерцев с эскадроном улан. Уланы были на короткое время приостановлены от прицельных выстрелов картечью, однако после этого находились под впечатлением от примера штаб-ротмистра и командира эскадрона Михайловского и овладели орудиями, врубившись в каре. Получивший небольшую рану герой дня получил награду святого Георгия.
По окончании Венгерской компании Георгий Антонович Михайловский с «образцовой командой» был представлен императору Николаю I, после чего государь перевёл его в Уланский полк, в лейб-гвардию, и даже стал восприемником некоторых его детей, среди которых был и Николай. Спустя несколько лет Михайловский в чине майора оставил военную службу и ушёл в отставку.
Мать Гарина-Михайловского - Михайловская Глафира Николаевна (фамилия при рождении - Цветинович или Цветунович). Если ориентироваться на фамилию, то Глафира, скорее всего, происходила из сербской дворянской семьи, что в то время в России не являлось чем-то необыкновенным.
Николай Георгиевич появился на свет в 1852 году, детство его прошло в городе Одесса. Обучался в Ришельевской гимназии Одессы.
После окончания одесской гимназии в 1871 году Михайловский поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но обучение здесь было недолгим, через год он провалился на экзамене, после чего Николай решил, что лучше быть не плохим юристом, а хорошим ремесленником.
В 1872 году он бросил Университет и был зачислен в Институт путей сообщения. Надо сказать, что и здесь юный Михайловский не особо утруждал себя образованием. Через много лет он признался, что относился к числу «облыжных студентов», как их тогда называли, которые целью обучения считали не приобретение уверенных теоретических знаний, а приобретение диплома, дающего возможность работать по специальности.
Весь досуг Гарина-Михайловского в основном состоял из дружбы и любви (в то время он был далёк от общественно-политических вопросов). Какое-то время он пробовал заниматься писательским делом, но студенческая повесть, которую писатель представил в редакцию журнала, была отвергнута без каких-либо мотиваций. Эта неудача сбила с ног юного автора и на долгие годы отбила у него желание заниматься литературным творчеством.
В 1876 году, летом, Гарин-Михайловский трудился в Бессарабии кочегаром на железной дороге (один из вариантов практики студента инженера-путейца). Близкое знакомство с людьми, работавшими физическим трудом, выполняя изнуряющую работу машиниста и кочегара, принесло молодому Михайловскому большую пользу и способствовало становлению его личности.
Год окончания учёбы писателя в Институте путей сообщения пришёлся на большое историческое событие, а именно на Русско-турецкую войну, длящуюся с 1877 год по 1878 год. Он окончил обучение и получил специальность инженера, когда война всё ещё шла. Сразу после окончания своего курса его направили в Болгарию, оккупированную российскими войсками, в Бургас, старшим техником. Там он принимал участие в строительстве шоссе и порта. Получил один из первых своих орденов, касающихся гражданской службы, 1879 году за прекрасное исполнение всех поручений в прошедшую войну.
Спустя двадцать лет впечатления о службе в Бургасе нашли своё отражение в повести «Клотильда», опубликованной в 1899 году. Будучи молодым инженером, весной 1879 года Михайловский, у которого не было практического опыта в строительстве железных дорог, смог чудом получить престижную должность на строительстве Бендеро-Галацкой ЖД, которое вела организация известного концессионера С. Полякова. Эта работа очень сильно захватила Михайловского, писатель быстро показал себя с самой лучшей стороны, зарекомендовал себя и стал зарабатывать приличные деньги, продвигаясь по службе.
Летом 1879 года, находясь по делам службы в городе Одесса, Николай Георгиевич познакомился с знакомой своей сестры Нины, которую звали Надежда Валерьевна Чарыкова, после чего женился на ней. Это было 22 августа 1879 года.
Зимой он работал в Министерстве путей сообщения. Среди других инженер Михайловский отличался щепетильной честностью и крайне болезненно воспринимал направленность многих коллег по работе к неправедному личному обогащению (взятки, участие в подрядах). Через три года он ушёл в отставку, мотивируя это тем, что неспособен сидеть в окружении двух стульев, то есть с одной стороны - государственные интересы, с другой стороны - личные хозяйские.
Гарин-Михайловский в 1883 году приобрёл за 75 тысяч рублей Гундуровку (Самарская губерния), имение в Бугурусланском уезде, и с женой поселился в помещичьей усадьбе. Николай и Надежда Гарины-Михайловские, к этому времени имевшие уже двух своих маленьких детей, прожили здесь около 2,5 года.
В ходе реформы 186 года, как известно, крестьянские общины приобрели часть земель помещиков, однако крупными владельцами по-прежнему оставались дворяне. Чтобы прокормиться, бывшие крепостные постоянно вынуждены были обрабатывать земли помещиков, играя роль наёмных работников, за мизерную плату. Экономическое состояние крестьян после реформы во многих местах лишь только ухудшилось. Имея в обороте довольно крупный капитал (порядка 40 тысяч рублей), Николай Георгиевич собирался создать в имении образцовое хозяйство на дворянских землях. В качестве образца для подражания он взял находившееся неподалёку от Гундуровки поселение колонистов, получавших баснословные, по представлениям русских крестьян, урожаи. Таким способом супруги хотели улучшить материальное положение местных крестьян: поднять в целом уровень их культуры и научить их правильно обрабатывать землю. Кроме этого Николай Георгиевич под влиянием народнических веяний хотел модифицировать систему общественных взаимоотношений, сложившуюся на селе. Программа писателя была проста: «уничтожение кулаков и восстановление общины».
На долю жены Гарина-Михайловского, Надежды Валерьевны, пришлось очень много занятий в деревне: она лечила крестьян, живших в их поместье, всевозможными «общеупотребительными средствами», организовала школу, в которой сама проводила занятия для всех девочек и мальчиков деревни. Спустя два года её школа содержала уже пятьдесят учеников, кроме того, у неё самой возникли два молодых парня-помощника, которые сами окончили сельскую школу в соседском большом селе.
В экономическом плане дела писателя в имении шли замечательно, однако крестьяне с ропотом и недоверием принимали все нововведения сердобольного помещика, и он вынужден был постоянно преодолевать противодействие инертной массы, а с тамошними кулаками ему вообще пришлось вступить в большой конфликт, следствием которого стала целая серия поджогов. Сначала он лишился молотилки и мельницы, а потом и всего урожая. Когда Николай Георгиевич почти разорился, он решил уехать из деревни и возвратиться к своей инженерной деятельности. Само имение было доверено жёсткому управляющему.
В последующие годы Николай Георгиевич появлялся в своём имении только наездами и редко задерживался здесь надолго, вместо сельской глуши предпочитая Самару - губернский город. Гундуровка была переложена и заложена, но до её продажи дело всё никак не доходило и дошло ещё весьма нескоро. Но на этом биография Гарина-Михайловского не заканчивается.
Литературный дебют писателя состоялся в 1892 году. Рукопись произведения «Несколько лет в деревне», которую доставил в Москву один приятель Михайловского, нашла своего первого читателя в кружке московских прозаиков на квартире Н. Н. Златовратского. Надо сказать, что отзывы слушателей произведения были сочувственными. Но особенно ценным для писателя было одобрение идейного лидера литераторов народного направления, коим был Николай Константинович Михайловский, предложивший издать рукопись своего однофамильца и тёзки в «Русской мысли», популярном в то время журнале.
Всевозможные разъезды, экспедиции, изыскания оставляли Михайловскому мало времени для занятий литературным творчеством, случалось, что он писал в дороге, «на облучке», урывками. Однако была в этом и положительная сторона. Непосредственно близкая связь с повседневной жизнью вдохновляла писателя на написание литературных произведений, придавая им определённое неповторимое своеобразие.
Основную часть литературного наследия писателя составляют очерки - бесконечный ряд художественных произведений из жизни, окружающей автора, яркое и красочное изложение непосредственных чувств и эмоций, зачастую с публицистическими отступлениями. Элемент беллетристики более заметен в рассказах, но и тут в основе сюжета почти всегда лежит какой-либо факт из реальной жизни.
Несмотря на любовь Николая Георгиевича к так называемому «малому жанру» рассказа и очерка, наибольшую литературную популярность принесли писателю не они, а ряд автобиографических повестей (по выражению Горького, составлявших целую эпопею). В 1893 году появилась повесть «Гимназисты» - продолжение «Детства Тёмы». Два года спустя, была опубликована и третья часть, получившая название «Студенты». Начиная с 1898 года и до конца своей жизни, автор работал над четвёртой повестью данного цикла («Инженеры»).
В сентябре 1906 года, по возвращении из Маньчжурии, писатель обосновался в городе Петербурге. Принимал активное участие в общественной и литературной жизни столицы. Состоял в редакции большевистского журнала, который назывался «Вестник жизни», в нём сотрудничал с А. В. Луначарским, В. Д. Бонч-Бруевичем и В. В. Воровским. Скоропостижно скончался 10 декабря 1906 года во время заседания редакции, в котором в тот день обсуждалась и читалась его драматическая зарисовка «Подростки».
Николай Георгиевич похоронен на Волковом кладбище на Литераторских мостках.
Обращаем Ваше внимание, что в биографии Гарина-Михайловского Николая Георгиевича представлены самые основные моменты из жизни. В данной биографии могут быть упущены некоторые незначительные жизненные события.
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
Все в городе знали старого громадного еврея с длинными, всклокоченными, как львиная грива, волосами, с бородой, которая от старости была желта, как слоновая кость.
Он ходил в лапсердаке, в стоптанных туфлях и только тем разве и отличался от остальных евреев, что смотрел своими громадными на выкате глазами не вниз, как, говорят, смотрят все евреи, а куда-то вверх.
Проходили годы, поколения сменялись поколениями; неслись с грохотом экипажи; озабоченной вереницей торопились мимо прохожие, мальчишки, смеясь, бежали,-- а старый еврей, торжественный и безучастный, все так же двигался по улицам с устремленным взглядом туда вверх, точно он видел там то, чего другие не видели.
Единственный человек в городе, которого старый еврей удостаивал своего внимания, был учитель математики одной из гимназий.
Каждый раз, заметив его, старый еврей останавливался и долго, внимательно смотрел ему вслед. Может быть, и учитель математики замечал старого еврея, а может быть, и нет, потому;что это был настоящий математик, -- рассеянный, маленький, с физиономией обезьяны, который ничего, кроме своей математики, не знал, не видел и знать не хотел. Засунуть в карман, вместо платка, губку, которою вытирают доску; явиться на урок без сюртука,-стало для него настолько обычным делом, а глумление учеников дошло до таких размеров, что учитель, наконец, вынужден был оставить преподавание в гимназии.
С тех пор он весь отдался своей науке и выходил из дома только для того, чтобы пообедать в кухмистерской. Жил он в своем собственном, доставшемся ему от отца большом доме, сверху до низу набитом квартирантами. Но почти никто из квартирантов ничего не платил ему, потому что все это был неимущий, бедный люд.
Дом был грязный, многоэтажный. Но грязнее всего дома была квартира из двух комнат в подвальном этаже самого учителя, вся заваленная книгами, исписанной бумагой, с таким толстым слоем пыли на них, что если бы поднять ее всю враз, то, пожалуй, можно было бы и задохнуться.
Но ни учителю, ни старому коту, другому обитателю этой квартиры, никогда и в голову не приходила такая мысль: учитель неподвижно сидел за своим столом и писал выкладки, а кот без просыпу спал, свернувшись клубком на подоконнике с железными решетками.
Пробуждался он только к обеду, когда наступало время встречать учителя из кухмистерской. И он встречал его улицы за две -- старый, облезлый. Долгим опытом кот знал, что из тридцатикопеечного обеда полпорции отрезывались для него, завертывались в бумагу и выдавались ему, когда он возвратится домой. И, предвкушая наслаждение, кот с высоко поднятым хвостом, изогнутой спиной, весь в клочках слежавшейся шерсти, шагал по улицам впереди своего хозяина.
Дверь в квартиру учителя отворилась однажды и в нее вошел старый еврей.
Старый еврей, не спеша, вынул из-за жилетки грязную, толстую, всю исписанную по-еврейски тетрадь и передал ее математику.
Математик взял тетрадь, повертел ее в руках, задал несколько вопросов, но старый еврей, очень плохо говоривший по-русски, почти ничего не понял, но математик понял, что в тетради речь идет о какой-то математике. Понял, заинтересовался и, найдя переводчика, занялся изучением рукописи. Результат этого изучения был необычный.
Через месяц еврей был приглашен в местный университет в отделение математического факультета.
В зале заседали математики всего университета, всего города, заседал и старый еврей, такой же безучастный, со взглядом вверх, и через переводчика давал свои ответы.
Сомнения нет,-- сказал еврею председатель,-- вы действительно сделали величайшее из всех в мире открытий: вы открыли дифференциальное исчисление... Но, к несчастью для вас, Ньютон уже открыл его двести лет назад. Тем не менее ваш метод совершенно самостоятельный, отличный и от Ньютона и от Лейбница.
Когда ему перевели, старый еврей спросил хриплым голосом:
Его сочинения написаны на еврейском языке?
Нет, только на латинском,-- ответили ему.
Старый еврей пришел через несколько дней к математику и кое-как объяснил ему, что желал бы учиться математике и латинскому языку. В числе квартирантов учителя нашлись и студент-филолог и студент-математик, которые за квартиру согласились учить еврея: один -- латинскому языку, другой -основам высшей математики.
Старый еврей ежедневно с учебниками приходил, брал уроки и уходил учить их на дом. Там, в самой грязной части города, по темной, вонючей лестнице взбирался он среди коростливых детей на свой чердак, пожертвованный ему еврейским обществом, и в сырой, грибами поросшей конуре, присев у единственного окна, учил заданное.
Теперь, в часы отдыха, старый еврей, на вящую потеху ребятишек, часто шагал рядом с другим уродом города -- маленьким, с лицом обезьяны, учителем. Молча шли они, молча расставались и только на прощание пожимали руку друг другу.
Прошли три года. Старый еврей мог уже прочитать в подлиннике Ньтона. Он прочел его раз, другой, третий. Сомнения не было. Действительно, он, старый еврей открыл дифференцйиальное исчисление. И, действительно, оно было уже открыто двести лет тому назад величайшим гением земли. Он закрыл книгу, и все было кончено. Все было доказано. Это знал он один. Чуждый волновавшейся вокруг него жизни, ходил старый еврей по улицам города с бесконечной пустотой в душе.
Застывшим взглядом он смотрел на небо и видел там то, чего другие не видели: величайшего гения земли, который мог бы подарить мир новыми величайшими открытиями и который пригодится только для того, чтобы быть посмешищем и забавой детей.
Однажды нашли старого еврея мертвым в его конуре. В застывшей позе, он как изваяние, лежал, облокотившись на руки. Густые пряди, цвета пожелтевшей слоновой кости, волос рассыпались по лицу и плечам. Глаза его смотрели в раскрытую книгу, и, казалось, после смерти еще читали ее.
1) В основание рассказа взят истинный факт, сообщенный автору М. Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея -- Пастернак. Автор сам помнит этого человека. Подлинная рукопись еврея у кого-то в Одессе. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)
Капитонова, Надежда Анатольевна По страницам радиопередач: Н. Г. Гарин-Михайловский / Н. А. Капитонова // Исторические чтения. Вып. 10. 2007. С.383-407
ПО СТРАНИЦАМ РАДИОПЕРЕДАЧ
1. Гарин-Михайловский
Жизнь Николая Георгиевича Гарина-Михайловского так богата событиями, работой, творчеством, что о нем стоит написать роман. Его можно назвать уникальным человеком: он и писатель (его знаменитая тетралогия "Детство Темы", "Гимназисты", "Студенты" и "Инженеры" стала классикой), и талантливый инженер-путеец (не зря его называли "Рыцарем железных дорог"), журналист, бесстрашный путешественник, хороший семьянин и воспитатель. Савва Мамонтов сказал о нем: "Талантлив был, во все стороны талантлив". Гарин-Михайловский был не только великим тружеником, но и большим жизнелюбом. Горький называл его "Веселым праведником".
Нам он интересен еще и потому, что строил на Южном Урале железную дорогу. Можно сказать, что он соединил Челябинск с Европой и Азией, жил несколько лет у нас в Усть-Катаве, какое-то время жил в Челябинске. Несколько рассказов и повесть он посвятил уральцам: "Лешее болото", "Бродяжка", "Бабушка".
В Челябинске есть улица имени Гарина-Михайловского. На здании нашего вокзала до недавнего времени висела мемориальная доска с его именем, которая была открыта в 1972 году. Сейчас, к сожалению, она исчезла. Мемориальную доску с барельефом Гарина-Михайловского челябинцы просто обязаны вернуть на место!
Начало жизни Гарина-Михайловского
Николай Георгиевич родился 20 февраля 1852 года в Петербурге, в семье известного генерала и потомственного дворянина Георгия Михайловского. Генерал был так уважаем царем, что сам Николай I стал крестным отцом мальчика, которого назвали в его честь. Вскоре генерал ушел в отставку, переехал с семьей в Одессу, где у него было имение. Николай был старшим из девяти детей.
В доме была своя жесткая система воспитания. Писатель рассказал о ней в своей знаменитой книжке "Детство Темы". Когда мальчик подрос, его отдали в известную в Одессе Ришельевскую гимназию. Окончив ее, поступил в 1871 году в Петербургский университет на юридический факультет, но учеба не задалась, и на следующий год Николай Михайловский блестяще сдал экзамены в институт инженеров путей сообщения и никогда об этом не пожалел, хотя работа у него была невероятно трудной. Он это понял еще на студенческой практике. Был момент, когда он чуть не погиб. В Бессарабии он работал кочегаром на паровозе, с непривычки очень устал, а машинист пожалел парня, за него бросал в топку уголь, тоже устал, и оба уснули в дороге. Паровоз шел неуправляемым. Только чудом они спаслись.
Работа Николая Михайловского на железной дороге
После окончания института принимал участие в строительстве дороги в Болгарии, потом был направлен на работу в Министерство путей сообщения. В 27 лет женился на дочери Минского губернатора Надежде Валерьевне Чарыковой, которая на всю жизнь стала ему женой, другом, матерью его детей. Она намного пережила мужа, написала о нем хорошую книгу. В министерстве Михайловский проработал недолго, попросился на строительство Батумской железной дороги в Закавказье, там пережил ряд приключений (нападали разбойники турки). Об этом можно прочитать в его рассказе "Два мгновения". И там он мог погибнуть. На Кавказе он всерьез столкнулся с казнокрадством, не мог с ним смириться. Решил круто изменить свою жизнь. В семье уже было двое детей. Купил имение в Самарской губернии, в 70 километрах от железной дороги, рядом с нищей деревней Гундуровкой.
"Несколько лет в деревне"
Николай Георгиевич оказался талантливым хозяйственником, реформатором. Он хотел отсталую деревню превратить в процветающую крестьянскую общину. Построил мельницу, купил сельхозмашины, посадил культуры, которых раньше местные крестьяне не знали: подсолнухи, чечевицу, мак. Пытался разводить форель в деревенском пруду. Помогал бескорыстно крестьянам построить новые избы. Его жена устроила школу для деревенских ребятишек. В Новый год устраивали для крестьянских детей елки, одаривали подарками. В первый же год получили прекрасные урожаи. Но крестьяне приняли эти добрые дела Михайловского за чудачества барина, обманывали его. Соседние помещики приняли нововведения в штыки и сделали все, чтобы свести на нет труды Михайловского сожгли мельницу, уничтожили урожай... Он придержался три года, почти разорился, разочаровался в своем деле: "Так вот чем кончилось мое дело!" Оставив за собой дом, семья Михайловских уехала из деревни.
Позже, уже в Усть-Катаве, Михайловский написал очерк "Несколько лет в деревне", где проанализировал свою работу на земле, понял свои ошибки: "Я тащил их (крестьян) в какой-то свой рай... образованный человек, а действовал, как невежда... я хотел повернуть реку жизни в другое русло". Этот очерк позже попал в столицу.
Уральский период жизни Михайловского
Михайловский вернулся к инженерному делу. Был назначен на строительство дороги Уфа Златоуст (1886 год). Сначала были изыскательские работы. Впервые в истории строительства железных дорог в России были такие трудности: горы, горные речки, болота, бездорожье, жара и мошкара летом, морозы зимой. Особенно сложный был участок Кропачево Златоуст. Позже Михайловский писал: "8% изыскателей навсегда сошли со сцены главным образом от нервного расстройства и самоубийств. Это процент войны". Когда начались строительные работы, было не легче: изнурительный труд, нет техники, все вручную: лопата, кайло, тачка... Надо было взрывать скалы, делать опорные стенки, строить мосты. Дорогу строили за государственный счет, и Николай Георгиевич боролся за удешевление строительства: "нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а они нам необходимы, как воздух, вода...".
Он составил проект более дешевого строительства, но его начальство не было заинтересовано в этом. Николай Георгиевич отчаянно боролся за свой проект, послал в министерство телеграмму в 250 слов! Неожиданно его проект утвердили и назначили начальникам участка. Историю этой борьбы Николай Георгиевич описал в рассказе "Вариант", где он узнаваем в образе инженера Кольцова. "Вариант" oн написал в Усть-Катаве. Прочитал жене, но сразу порвал. Жена тайно собрала клочки, склеила. Напечатали тогда, когда Гарина-Михайловского уже не было в живых. Чуковский написал об этом рассказе: "Так увлекательно писать о работе в России еще не умел ни один беллетрист". В Челябинске этот рассказ издали в 1982 году.
Но вернемся ко времени строительства железной дороги. Из письма жене (1887): "... Я весь день в поле с 5 утра и до 9 вечера. Устаю, но бодр, весел, слава богу, здоров...".
Он не обманывал жену, говоря о веселости и бодрости. Он действительно был человеком очень энергичным, быстрым, обаятельным. Горький позже писал о нем, что Николай Георгиевич "принимал жизнь, как праздник. И бессознательно заботился, чтобы и другие так жизнь принимали". Коллеги и друзья называли его "Божественным Никой". Очень любили рабочие, говорили: "Все сделаем, батюшка, только прикажи!" Из воспоминаний сотрудника: "...Чувство местности у Николая Георгиевича было удивительное. Продираясь на лошади по тайге, утопая в болотах, он будто с птичьего полета безошибочно выбирал наиболее выгодные направления. А строит он, как волшебник". И, как будто он отвечает на это в письме к жене: "Про меня говорят, что я чудеса делаю, и смотрят на меня большими глазами, а мне смешно. Так мало надо, чтобы все это делать. Побольше добросовестности, энергии, предприимчивости, и эти с виду страшные горы расступятся и обнаружат свои тайные, никому не видимые, ни на каких картах не обозначенные ходы и проходы, пользуясь которыми можно удешевлять и сокращать значительно линию".
И можно привести много примеров "удешевления" строительства дороги: очень сложный участок на перевале у станции Сулея, кусок дороги от станции Вязовая до разъезда Яхино, где надо было делать глубокие выемки в скалах, строить мост через реку Юрюзань, проводить реку в новое русло, насыпать вдоль реки тысячи тонн грунта... Тот, кто проезжает станцию Златоуст, не перестает удивляться железнодорожной петле, придуманной Николаем Георгиевичем.
Он был в одном лице: талантливый изыскатель, не менее талантливый проектировщик и выдающийся строитель железных дорог.
Зимой 1887 года Николай Георгиевич поселился с семьей в Усть-Катаве. На кладбище у церкви есть маленький памятник. Здесь похоронена дочка Николая Георгиевича Варенька. Она прожила всего три месяца. Но здесь же родился сын Гаря (Георгий), который дал новое имя писателю. К сожалению, дом, где жили Михайловские, в городе не сохранился. 8 сентября 1890 года пришел первый поезд из Уфы в Златоуст. В городе было большое торжество, где с речью выступал Николай Георгиевич. Тогда правительственная комиссия отмечала: "Уфа Златоустовская дорога... может быть признанной одной из выдающихся дорог, построенных русскими инженерами. Качество работ... может быть признано образцовым". За работу на строительстве дороги Николай Георгиевич был награжден орденом Святой Анны. Не будет лишним сказать, что хорошо всем знакомый знак "Европа Азия", установленный на самой высокой точке Южно-Уральской железной дороги, выполнен по проекту Гарина-Михайловского.
Бывал Михайловский в 1891-1892 годах и в Челябинске. Тогда управление строительством дороги находилось в двухэтажном доме по улице Труда рядом с сегодняшним геологическим музеем. Дом в 80-е годы прошлого века снесли. Теперь на этом месте памятник Сергею Прокофьеву. Хорошо бы этот памятник перенести к филармонии (он там и планировался!), а на этом месте поставить памятник тем, кто строил железную дорогу, в том числе и Гарину-Михайловскому! Поселка, в котором тогда жил Гарин-Михайловский, уже нет на карте Челябинска.
Писатель Гарин-Михайловский
Зимой 1890-1891 года тяжело заболела Надежда Валерьевна. Михайловский оставил работы на дороге, увез семью в Гундуровку, где было легче прожить. Жена поправилась. Николай Георгиевич на досуге начал писать воспоминания о детстве ("Детство Темы"). Ранней весной, в самую распутицу, к ним приехал из Петербурга неожиданный и редкий гость уже известный писатель Константин Михайлович Станюкович. Оказывается, к нему попала рукопись Николая Георгиевича "Несколько лет в деревне", он был ею очарован. И приехал в такую даль и глушь, чтобы познакомиться с автором, предложить напечатать статью в журнале "Русская мысль". Разговорились, Станюкович спросил, нет ли еще чего-нибудь написанного. Михайловский стал читать свою рукопись о детстве. Станюкович горячо ее одобрил, предложил быть ее "крестным отцом", но попросил придумать псевдоним, т.к. главным редактором "Русской мысли" в то время был однофамилец Михайловского. Долго думать не пришлось, потому что в комнату пришел годовалый Гаря, очень недружелюбно и с опаской смотрел на незнакомца. Николай Георгиевич взял сына на колени и стал успокаивать: "Не бойся, я Гарин папа". Станюкович сразу ухватился: "вот и псевдоним Гарин!". И первые книги выходили под этим именем. Потом появилась двойная фамилия Гарин-Михайловский.
Летом 1891 года Михайловский был назначен руководителем изыскательской партии по подготовке строительства Западно-Сибирской магистрали на участке Челябинск Обь. Опять поиски наиболее удачных и удобных вариантов в прокладке дороги. Это он настоял, чтобы мост через Обь был построен у села Кривощеково. Николай Георгиевич тогда писал: "Пока здесь вследствие отсутствия железных дорог все спит... но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старой новая жизнь...". Он как будто знал, что на месте маленькой станции возникнет город Новониколаевск, который потом станет огромным городом Новосибирском. Большая площадь у Новосибирского вокзала носит имя Гарина-Михайловского. На площади памятник Гарину-Михайловскому. За 6 лет протянулась дорога от Самары в Челябинск (свыше тысячи километров), а потом и дальше. Первый поезд пришел в Челябинск в 1892 году. И в этом немалая заслуга Гарина-Михайловского.
Пока Николай Георгиевич занимался строительством железной дороги, к нему пришла литературная слава. В 1892 году журнал "Русское богатство" печатает "Детство Темы", а чуть позже "Русская мысль" "Несколько лет в деревне". О последнем произведении Чехов написал: "Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде и по тону, и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй". К нему присоединяется Корней Чуковский, говорит, что "Несколько лет в деревне" читается, как сенсационный роман, "у Гарина даже разговоры с приказчиком о навозе волнуют, как любовные сцены".
Гарин-Михайловский переехал в Петербург, взялся за издание: журнала (1892). Заложил свое имение, купил "Русское богатство", в первом же номере поместил рассказы Станюковича, Короленко, Мамина-Сибиряка, которые стали его друзьями.
Гарин-Михайловский много работает, спит по 4-5 часов в сутки пишет продолжение "Детства Темы", статьи о строительстве дорог, о воровстве на строительстве, борется за государственное обеспечение строительства, подписывается под ними "инженер-практик" Министр железных дорог знает, кто пишет неугодные ему статьи грозит уволить Михайловского из системы железных дорог. Но, как инженер Гарин-Михайловский уже известен. Без работы он не остается. Проектирует дорогу Казань Сергиевы Воды. Продолжает бороться с казнокрадством на железной дороге. Гарин-Михайловский не был революционером, но знакомится с Горьким, помогает революционерам деньгами.
Работа на железной дороге не позволяет ему сидеть за письменным столом, он пишет на ходу, в поезде, на клочках бумаги, бланках конторских книгах. Иногда рассказ пишется за одну ночь. Очень волновался, посылая свое произведение, крестил его. Потом мучился, что не так написал, с разных станций посылает поправки телеграммами. Насколько мне известно, это был единственный русский писатель, по телеграфу писавший свои произведения" (С. Елпатьевский). Гарин-Михайловский автор не только знаменитой тетралогии, но и повестей, рассказов, пьес, очерков.
Гарин-Михайловский и дети
Пора сказать о главной любви Николая Георгиевича. Это дети. Из письма жене (1887): "Тебя, моя радость, и деток я люблю больше жизни с радостью и наслаждением вспоминаю о вас...". У него было 11 своих детей и трое приемных! Еще в молодости они с невестой дали клятву. "Мы никогда пальцем не тронем наших детей". И действительно в его семье никогда не наказывали детей, одного его недовольного взгляда было достаточно. Он очень хотел, чтобы дети были счастливы, в одном из рассказов он пишет: "... ведь если в пору детства нет счастья, когда ж оно будет?". Не так давно по московскому радио читали чудный рассказ Гарина-Михайловского "Исповедь отца" о чувствах отца, наказавшего маленького сына, а потом потерявшего его. Хорошо, если бы эту передачу повторили.
Всюду его окружали дети, чужие дети звали его дядя Ника. Любил делать детям подарки, устраивать праздники, особенно новогодние елки. Сочинял сказки на ходу, прекрасно их рассказывал. Его детские сказки издавались до революции. Разговаривал с детьми серьезно, на равных. Когда умер Чехов, Николай Георгиевич пишет 13-летнему приемному сыну: "Умер самый чуткий и отзывчивый человек и, вероятно, самый страдающий человек в России: вероятно, мы даже не можем понять сейчас всю величину и значение потери, какую принесла эта сметь… А что ты думаешь об этом? Напиши мне...". Сохранились его письма к уже взрослым детям. Он мало виделся с детьми, не навязывал им своих убеждений, но влияние его на детей было огромным. Все они выросли достойными людьми: Сергей стал горным инженером, Георгий (Гаря) учился до революции за границей, оказался в вынужденной эмиграции, знал 14 языков, был специалистом по международному праву, переводил на иностранные языки произведения отца. Вернулся в 1946 году в СССР, но вскоре умер...
Своему детству Гарин-Михайловский посвятил свою первую и самую дорогую книжку "Детство Темы" (1892). Эта книга не только воспоминания о собственном детстве, но и размышления о семейном, нравственном воспитании человека. Он помнил жестокого отца, карцер в их доме, порки. Мать защищала детей, говорила отцу: "Щенков вам дрессировать, а не детей воспитывать". Отрывок из ""Детства Темы" стал книгой "Тема и Жучка", одной из первых и любимых книг детей многих поколений в нашей стране.
Продолжение "Детства Темы" "Гимназисты" (1893). И эта книга во многом автобиографична, "все взято прямо из жизни". Цензура протестовала против этой книги. Гарин-Михайловский пишет, что гимназия превращает детей в тупиц, коверкает души. Кто-то назвал его повести "Бесценным трактатом о воспитании... как не нужно воспитывать". Книги тогда произвели на читателей, особенно на педагогов, огромное впечатление. Посыпался поток писем. Гарин-Михайловский вложил в уста своего героя из "Гимназистов" (учителя Леонида Николаевича) такие слова: "Говорят, заводить речь об образовании поздно, говорят, это старый и скучный вопрос, давно решенный. Я не согласен с этим. Нет решенных вопросов на земле, и вопрос образования самый острый и больной у человечества. И это не старый, скудный вопрос это вечно новый вопрос, потому что нет старых детей".
Третья книга Гарина-Михайловского "Студенты" (1895). И в этой книге его жизненный опыт, наблюдения, что и в студенчестве подавлялось человеческое достоинство, задача и института сделать не человека, а раба, приспособленца. Только в 25 лет, когда он начал строить свою первую дорогу, стал работать, только тогда обрел себя, обрел характер. Оказалось, что все первые 25 лет его жизни это была тоска по работе. Кипучая натура с детства ждала живого дела, но семья, гимназия, институт убивали эту жажду. Четвертая книга "Инженеры". Она не была дописана. И вышла уже после смерти писателя (1907). Горький назвал эти книги Гарина-Михайловского "целой эпопеей русской жизни".
Гарин-Михайловский путешественник
Работа на железной дороге, мучительная работа над книгами. Николай Георгиевич очень устал и решил "отдохнуть" проехать вокруг света (1898) через Дальний Восток, Японию, Америку, Европу. Это была его давняя мечта. Он давно исколесил всю Россию теперь захотелось повидать другие страны. Гарин-Михайловский собрался в путешествие, а перед самым отъездом ему предложили принять участие в большой научной экспедиции по Северной Корее и Маньчжурии. Он согласился. Это было очень трудное, опасное, но чрезвычайно интересное путешествие по неизведанным местам. Писатель прошел с экспедицией 1600 километров пешком и верхом на лошади. Очень много повидал, вел дневники, слушал через переводчика корейские сказки. Позже он издал эти сказки впервые в России и Европе. У нас издавали эти сказки в 1956 году и больше, к сожалению, не переиздавали.
Гарин-Михайловский побывал в Японии, Америке, Европе. Интересно читать его строчки о возвращении в Россию после такого путешествия: "Не знаю, как кого, а меня охватило тяжелое, прямо тягостное чувство, когда я въезжал в Россию из Европы... Привыкну, опять втянусь в эту жизнь, и, может быть, не будет она казаться тюрьмой, ужасом, и еще тоскливее от этого сознания".
Гарин-Михайловский писал интересные отчеты о своей экспедиции по Северной Корее. После возвращения из поездки он был приглашен к царю в Аничков дворец. Николай Георгиевич очень серьезно готовился к рассказу о виденном и пережитом, но, оказалось, его рассказ никого из царской семьи не интересовал, царица явно скучала, а царь рисовал женские головки. Вопросы задавали совсем не по делу. Потом Николай Георгиевич писал о них "Это провинциалы!" Но царь все же решил наградить Гарина-Михайловского орденом Святого Владимира. Писатель его так и не получил, потому что подписал вместе с Горьким письмо-протест против избиения студентов у Казанского собора. Николая Георгиевича выслали на полтора года из столицы.
Опять железная дорога
Весной 1903 года Гарина-Михайловского назначают начальником изыскательской партии строительства железной дороги по Южному берегу Крыма. Николай Георгиевич исследовал возможности прокладки дороги. Он понимал, что дорога должна пройти по очень живописным местам, курортам. Поэтому разработал 84 (!) варианта электрической дороги, где каждую станцию должны были проектировать не только архитекторы, но и художники. Каждая станция должна была быть очень красивой, нестандартной. Он тогда писал: "Два дела хотел бы я закончить электрическую дорогу в Крыму и повесть "Инженеры". Но ни того, ни другого у него не получилось. Строительство дороги должно было начаться весной 1904 года, а в январе началась русско-японская война...
Крымская дорога до сих пор так и не построена! А Гарин-Михайловский поехал на Дальний Восток военным корреспондентом. Писал очерки, которые потом стали книгой "Дневник во время войны", где была настоящая правда о той войне. После революции 1905 года ненадолго приезжал в Петербург. Отдал большую сумму денег на революционные нужды. Он не знал, что с 1896 года и до конца его жизни он находился под негласным надзором полиции.
Уход Гарина-Михайловского
После войны вернулся в столицу, с головой ушел в общественную работу, писательство, писал статьи, пьесы, пытался закончить книгу "Инженеры"... Он не умел отдыхать, спал по 3-4 часа в сутки. Жена уговаривала отдохнуть, а он ей отвечал: "В могиле отдохну, там высплюсь". Наверное, он не догадывался, как близок он был к истине в своем пророчестве. 26 ноября 1906 года Николай Георгиевич собрал друзей, всю ночь говорили, спорили (он хотел создать новый театр). Разошлись под утро. А в 9 утра опять работа. Вечером Гарин-Михайловский на заседании редакции "Вестника жизни", опять споры, яркое, горячее его выступление. Неожиданно ему стало плохо, он вышел в соседнюю комнату, лег на диван и умер. После вскрытия врач сказал, что сердце было здоровое, но от предельного переутомления произошел его паралич.
Денег на похороны в семье не хватило, пришлось собирать по подписке. Похоронен Гарин-Михайловский на Волковом кладбище в Петербурге.
О Гарине-Михайловском написано много, есть книги, статьи, воспоминания. Но, наверное, самые точные характеристики дал ему Корней Чуковский (очерк "Гарин"). Так и хочется привести здесь весь очерк, но он велик 21 страница. Вот только некоторые строчки из очерка:
"Гарин был невысокого роста, очень подвижной, щеголеватый, красивый: в волосах седина, глаза молодые и быстрые... Всю жизнь он работал инженером-путейцем, но и в его шевелюре, в его порывистой, неровной походке и в его необузданных, торопливых, горячих речах всегда чувствовалось то, что называется широкое натурой художник, поэт, чуждый скаредных, корыстных и мелочных мыслей...
Самым важным мне кажется то, что при всех своих эмоциональных порывах, при всей своей нерасчетливой, безудержной щедрости это был деловитый, деловой человек, человек цифр и фактов, смолоду привыкший ко всякой хозяйственной практике.
В этом и заключалось своеобразие его творческой личности: в сочетании высокого строя души с практицизмом. Сочетание редкое, особенно в те времена... Он единственный из современных ему беллетристов был последовательным врагом бесхозяйственности, в которой он и видел источник всех наших трагедий. В своих книгах он часто твердил, что Россия совершенно напрасно живет в такой унизительной бедности, так как она богатейшая в мире страна...
И в русскую деревню, и в русскую промышленность, и в русское железнодорожное дело, и в русский семейный уклад всмотрелся так же деловито и вдумчиво сделал как бы ревизию России восьмидесятых и девяностых годов... Причем, как у всякого практика, цели у него всегда конкретные, четкие, близкие, направленные к устранению какого-нибудь определенного зла: вот это нужно изменить, перестроить, а вот это уничтожить совсем. И тогда (в этой ограниченной области) жизнь станет разумнее, богаче и радостнее...".
Очень жаль, что при жизни Гарина-Михайловского его взгляды на переустройство России не были оценены в стране.
Южный Урал может гордиться, что такой человек имеет к нему прямое отношение.
Гарин Николай Георгиевич (псевдоним; настоящее имя - Н. Г. Михайловский), писатель, родился 8(20).II.1852 г. в Петербурге в богатой дворянской семье.
Его отец в чине генерала вышел в отставку и переехал с семьей в Одессу, где и прошло детство и юность будущего писателя. Николай Георгиевич получил образование в Одесской гимназии.
С 1871 он учился в Петербургском университете на юридическом факультете.
С 1872 - в Институте путей сообщения, который и окончил в 1878.
Работал инженером-путейцем на строительстве Сибирской железной дороги. Конфликт на деловой почве с начальником участка заставил его бросить службу. Николай Георгиевич купил имение в Гундоровке, Бугурусланского уезда, Самарской губернии, намереваясь наладить в нем рациональное хозяйство на основе агрономической науки и оказывать помощь окрестным крестьянам. Натолкнувшись на сопротивление и месть кулаков, четырежды поджигавших его амбары и хозяйственные постройки, и непонимание крестьян, Гарин в 1886 отказался от своего эксперимента и бросил дело.
Впечатления от работы в имении легли в основу цикла очерков «Несколько лет в деревне» (1892). В них он показал всю несостоятельность народнических иллюзий о деревне, за что подвергся нападкам народнической критики. Очерки произвели большое впечатление на известного марксиста Н. Е. Федосеева. М. Горький писал: «Очерки» весьма понравились мне» (Собр. соч., т. 17, М., 1952, с. 68-69).
Высоко оценил их Чехов: «Ничего подобного не было в литературе в этом роде по топу и, пожалуй, искренности» (XV, 440). Несколько позднее Чехов писал: «Здесь у пишущей публики имеет большой успех Гарин. О нем много говорят. Я пропагандирую его «Несколько лег в деревне» (XV, 460). Чехов своеобразно интерпретировал тему гаринского произведения в «Новой даче».
В конце 1891 литературное товарищество, членами которого были Н. Г. Гарин, К. М. Станюкович, С. Н. Кривенко и А. И. Иванчин-Писарев, купило журнал «Русское богатство». В нем Николай Георгиевич печатает свои рассказы и повести. Однако народническая программа журнала не удовлетворяла писателя, разногласия с редакцией «Русского богатства» все обострялись, и в 1897 он совсем порвал с журналом.
Еще с 1893 Гарин сотрудничал и в журналами «Начало», «Жизнь», «Журнал для всех». Сблизившись с марксистами, он оказывал материальную помощь их газете«Самарский вестник», в редакцию, которой он входил в 1896-97. Он издавал марксистские брошюры, подписал совместно с другими литераторами протест против избиения демонстрантов у Казанского собора в Петербурге в 1901, за что был выслан из столицы.
Гарин оценил общественно-историческое значение марксизма. Он писал сыну: «С.-д. на основании экономических учений приходят к строго научному выводу о неизбежности эволюции жизни и достижения конечной цели - торжества труда над капиталом... И только с учением Маркса, с точным выводом законов жизни, явилась возможность не терять на ветер приобретенного, знать, чего хочешь».
Горький писал о взглядах Гарина: «Его привлекала активность учения Маркса... Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности» (Собр. соч., т. 17, М., 1952, с. 77).
Кругосветное путешествие 1898 Гарин описал в книгах очерков «Вокруг света» и «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» (1899). В них он обнажил жестокую эксплуатацию трудящихся азиатских стран, обрисовал обычаи и нравы восточных народов. Записи фольклорных материалов (собрано около 90 сказок) писатель использовал в книге «Корейские народные сказки».
Во время русско-японской войны 1904 Гарин 5 месяцев находился в местах боевых действий. Впечатления этого времени составили книгу «Война. Дневник очевидца» (1904), в которой правдиво воспроизведены писателем суровые будни русской армии.
Во время революции 1905 Николай Георгиевич Гарин активно помогал большевикам.
В 1906 он печатает свои произведения в большевистском журнале «Вестник жизни». С начала 90-х гг. Гарин печатается в издательстве «Знание», дружит с Горьким. Вся жизнь Николая Георгиевича прошла в постоянных разъездах, писал он «на облучке» и умер «на ходу» - выйдя из зала заседаний редакции журнала «Вестник жизни».
Самое значительное произведение Гарин - тетралогия
«Детство Темы» (1892),
«Гимназисты» (1893),
«Студенты» (1895),
«Инженеры» (1907).
Вобрав в себя все темы творчества писателя, автобиографическая семейная хроника вылилась в широкое полотно общественной жизни России последней трети прошлого века. В ней полно раскрыта психология детского, отроческого и юношеского возраста, хорошо показано мертвящее воздействие на юные умы классического образования. Гимназия нивелирует личность учащихся, приучая их к бессмысленной зубрежке текстов, воспитывая скрытность, лицемерие. Пороки людей обусловлены пороками общества - эта мысль пронизывает все произведение. Ярко обрисованы педагоги, родители Темы: Аглаида Васильевна - женщина волевая, но реакционно настроенная, сковывающая любую инициативу детей, и генерал Карташев - служака, подавлявший венгерское восстание, насаждающий суровую дисциплину и в семье. Писатель нарисовал обобщенную картину жизни русской интеллигенции. Безвольный, рефлектирующий Артемий Карташев, энергичный циник и стяжатель Шацкий, вялый и нерешительный Корнев, чистая и целеустремленная Маня Карташева - все они представляют разные слои русской интеллигенции 80-х гг. Писатель приводит Артемия Карташева к возрождению: работая на строительстве железной дороги, он тянется к возвышенным идеалам, трудом инженера хочет способствовать прогрессу родной страны. Общение с людьми труда меняет взгляды Карташева, обновляет его.
Поэзия труда красной нитью проходит и через другие произведения Гарина («Вариант», «Два мгновения»). Жизнь рабочего-машиниста Гарин обрисовал в рассказе «На практике». Труд у Гарина Н.Г. выступает как источник оптимизма.
Это сближает писателя с Горьким. Замысел Гарина- показать жизнь современного ему общества со всех сторон - воплощен не до конца, т. к. писатель не поставил в центр совершающихся событий революционера, не показал силу, способную сломать прогнивший самодержавный строй. Он считал, что всемерным внедрением культуры и техники можно обновить жизнь. Сила тетралогии - в полноте психологических характеристик персонажей, особенно Темы, в драматичности повествования, в гуманистической устремленности автора. Писатель избегал подробных описаний, а давал яркую художественную деталь, раскрывавшую важную сторону характера. Художник детально прослеживает процесс становления характера молодого человека, подчеркивая обусловленность его общественными обстоятельствами. Горький назвал тетралогию «целой эпопеей». Лучшая часть тетралогии - «Детство Темы».
Критика справедливо отмечала, что повесть «стоит целого трактата по педагогике» (Ф.Батюшков). Произведение это часто переиздается и пользуется большим спросом в детских библиотеках. Повесть переведена на французский, немецкий, польский, чешский, словацкий, сербохорватский, болгарский, венгерский и др. языки. В ней органически: сочетаются яркие художественные картины и образы с взволнованными публицистическими отступлениями. Язык ее краток, лексически богат и эмоционален. Повествование окрашено лиризмом, мастерски построен диалог.
К детской тематике Гарин Николай Георгиевич обращался на протяжении всего творческого пути. Интересны его рассказы:
«Мальчик» (1896),
«Дворец Дима» (1899),
«Счастливый день» (1898) и др.
Наивные народнические иллюзии о путях развития деревни Гарин высмеял в «Деревенских панорамах», печатавшихся в «Русском богатстве» (1894, № 1-2, 3, 5).
Дикость, нищету и голод он изобразил в рассказах «Матренины деньги», «На ночлеге» и других Гарин выступал и как драматург.
Лучшая его пьеса - «Деревенская драма» - была опубликована в сборнике «Знание» в 1904. Но и в ней серьезные недостатки - убийство нагромождено на убийство. Мелодраматичны сцены, в которых две молодые женщины избавляются от хилых мужей. И хотя сам драматург говорил, что «весь сюжет полностью взят... из действительности», мелодраматизм сцен лишает пьесу и силы обобщения, и жизненной достоверности. Старик Антон, охарактеризованный авторской ремаркой как «молчаливый и загадочный», не раскрыт психологически, выглядит мелодраматическим злодеем, хотевшим подкупить крестьянский «мир». Явно заметен в драме уклон в биологическую область, а социальные стороны жизни отодвинуты на второй план.
Другие пьесы -
«В медвежьих лугах (Жонглеры чести)» (2-я пол. 90-х гг.),
«Орхидея» (1898),
«Зора» (1906),
«Подростки» (1907) - слабы в художественном отношении. Последняя пьеса отразила реальные события. В ней воспевается бесстрашие подростков-гимназистов, страстно спорящих по вопросам революции и стремящихся к участию в революционном деле. В этой пьесе Гарин Н.Г. подошел к теме революции.
Имя этого красивейшего человека, наделенного разносторонними талантами, носит столь же красивое место в Крыму на перевале Ласпи —
Скала Гарина-Михайловского
. Молодожены Севастополя включили это место в свой свадебный ритуал, но наверное, мало кто задумывается о том, что Николай Георгиевич помимо всего прочего еще вырастил 11 родных и троих приемных детей
.
Последнее крупное достижение советских времен (а других уже и не было) в дорожном строительстве в Крыму — шоссе Ялта-Севастополь
(1972
), как известно, спроектировано на основании материалов изысканий блестящего русского инженера-путейца Н. Г. Гарина-Михайловского
.
- Маршруты для самостоятельных путешествий по трассе Севастополь – Ялта (шоссе М18, 80 км) до бухты Ласпи и мыса Сарыч
Среди прочих его удивительных дел было кругосветное путешествие, издание на русском языке корейских сказок и основание города Новосибирск
. Совсем небольшая подборка материалов о Гарине-Михайловском, я надеюсь, вызовет к его личности огромный интерес и, во всяком случае, удивление.
Совсем небольшая подборка материалов о Гарине-Михайловском, я надеюсь, вызовет к его личности огромный интерес и, во всяком случае, удивление.
Ну и одна деталь (пунктик) нашего проекта: помимо всего прочего, отец Николая Гарина-Михайловского — Георгий Антонович Михайловский был генерал лейб-гвардии уланского полка! Сармат, однако. Показательно, что и как другой знаменитый инженер аристократического происхождения Сомов-Гирей, Гарин-Михайловский оценивал царя Николая II как неинтересного малообразованного человека — «пехотный офицер «, «это провинциалы » — уже обо всей императорской семье.
- Небольшое примечание о фамилии самого известного героя Гарина-Михайловского — Артемия Карташева . Кардаш — братишка, побратим в тюркских языках и в казачьей культуре. Это древняя традиция кочевой культуры: резать ладонь острым клинком, подставить кубок с вином под крепкое рукопожатие, из-под которого стекает общая кровь, выпить и обняться. Немецкое «брудершафт» это лишь бессмысленное копирование очень сложного и важного скифского обычая. Побратимство возникало, конечно, не в бою. Степь создавала множество опасностей на охоте и в пути торговых караванов. Для всех, кто превыше всего ценил приключения, рисковать жизнью ради незнакомых людей было высшим наслаждением. Но, оборотная сторона этой славной фамилии Карташев -неприятие будничной серой жизни. Это и сделало «Детство Темы » классикой. Беспокойные маленькие романтики и авантюристы появляются и появляются в каждом новом поколении.
В этом обзоре собраны материалы, из которых можно сделать и хорошую курсовую работу, и реферат, и небольшой эскурсионный текст или пятиминутный доклад в учебной аудитории:
2. Максим Сырников. Откуда я такой взялся…
3. Бялый Г. А. Гарин-Михайловский // История русской литературы :
4. Максим Горький. О Гарине-Михайловском
5. Скиталец. Гарин-Михайловский
6. Г. Якубовский, Яцко Т. В. Н.Г.Гарин-Михайловский — основатель города Новосибирска
7. Инженерные изыскания Гарина-Михайловского в Крыму
1. Гарин-Михайловский. Русский биографический словарь
(http://rulex.ru/01040894.htm)
Гарин — псевдоним беллетриста Николая Георгиевича Михайловского (1852 — 1906). Он учился в одесской Ришельевской гимназии и в институте инженеров путей сообщения. Прослужив около 4 лет в Болгарии и при постройке Батумского порта, он решил “сесть на землю” и провел 3 года в деревне, в Самарской губернии, но хозяйничанье не на обычных началах не пошло на лад, и он отдался железнодорожному строительству в Сибири. На литературное поприще выступил в 1892 г. имевшей успех повестью “Детство Темы” (”Русское Богатство”) и рассказом “Несколько лет в деревне” (”Русская Мысль”). В “Русском Богатстве” он напечатал затем “Гимназисты” (продолжение “Детства Темы”), “Студенты” (продолжение “Гимназистов”), “Деревенские панорамы” и др. Рассказы Гарина выходили отдельными книгами. Собрание сочинений вышло в 8 томах (1906 — 1910); отдельно издано также: “По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову” и “Корейские сказки”. Как специалист-инженер, Гарин горячо отстаивал в “Новом Времени”, “Русской Жизни” и других изданиях постройку дешевых железных дорог. Наиболее известное из произведений Гарина — трилогия “Детство Темы”, “Гимназисты” и “Студенты” — задумано интересно, исполнено местами талантливо и серьезно. “Детство Темы” — лучшая часть трилогии. У автора есть живое чувство природы, есть память сердца, с помощью которой он воспроизводит детскую психологию не со стороны, каквзрослый, наблюдающий ребенка, а со всею свежестью и полнотою детских впечатлений; но у него совсем нет уменья отделять типичное от случайного.
Автобиографический элемент слишком им владеет; он загромождает рассказ эпизодами, нарушающими цельность художественного впечатления. Больше всего отсутствие типичности заметно в “Студентах”, хотя и в них есть очень живо написанные сцены. — Ср. Елпатьевский, “Близкие тени”; Куприн, “Сочинения”, том VI. С. В. Литературная энциклопедия в 11 томах, 1929-1939: (Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — http://feb-web.ru/)
ГАРИН — псевдоним Николая Георгиевича Михайловского.
Инженер-путеец по образованию, участвовавший в постройке Сибирской железной дороги и Батумского порта, помещик-землевладелец, земец, Г. был многочисленными нитями связан со старым порядком. Но очень скоро работа на частной железной дороге показала ему невозможность служить одновременно интересам капитала и общества. Г. решил вступить на путь социального реформаторства, практического народничества, он предпринял опыт социалистического переустройства деревни. Для осуществления этой цели Г. приобрел имение в Самарской губ. Результаты этого социального эксперимента, окончившегося полной неудачей, описаны Г. в “историческом очерке” “В деревне”. Г. временами сочувствовал марксизму. Он поддерживал материально газету “Самарский вестник” , когда она была в руках марксистов, и входил в ее редакцию. В 1905 активно помогал большевикам.
Из произведений Гарина наиболее художественны повести: “Детство Темы”, “Гимназисты”, “Студенты” и “Инженеры”. Быт помещиков и интеллигенции (студенчества, инженеров и др.) показан в связи с психологией главного действующего лица, Карташева. Волевая и моральная неустойчивость роднит его с героем романа М. Горького — Климом Самгиным.
Значение повестей Г. — в живом изображении общественной атмосферы перед революцией 1905, того времени, когда система “классического” образования душила и калечила молодежь. Патриархальный обывательский быт с ранних лет уродовал ребенка, школа продолжала и довершала начатое. Одни вырастали калеками без воли и убеждений, как Карташев, другие кончали трагически, подобно юному философу Беренде. Лишь наиболее стойкие закалялись и вступали на революционный путь (последнюю тему Г. затрагивает вскользь). Первые две повести — “Детство Темы” и “Гимназисты” — художественно более выдержаны. Психология детского, отроческого и юношеского возрастов передана в них с подкупающей теплотой и свежестью.
Типы юношей, девушек, педагогов, родителей нарисованы живо и выпукло. Прозе Г. присущ живой диалог, мягкий лиризм.
Библиография:
I. Полное собр. сочин., в прилож. к “Ниве” за 1916; Собр. сочин., 9 тт., изд. “Знание”, СПБ., 1906-1910; в изд. “Освобождение”, тт. X-XVII, СПБ., 1913-1914; не вошли в собр. сочин.: По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову, Корейские сказки, изд. “Знание”, СПБ., 1904. За последние годы переизданы: Детство Темы, изд. 8-е, Гиз, П., 1923 (то же, Гиз, М. — Л., 1927); Гимназисты, Гиз, М. — Л., 1927 (для юношества).
II. А. Б. (Богданович А. И.), Критич. заметки, “Мир божий”, 1895, V (о “Гимназистах”); Николаев П., Вопросы жизни в современной литературе, 1902 (”Гимназисты”, “Деревенские панорамы”, “Студенты”); Елпатьевский С., Близкие тени, СПБ., 1909; Его же, Н. Г. Гарин-Михайловский, восп., журн.“Красная нива”, 1926, ? 19; Луначарский А. В., Критич. этюды (”Русск. лит-ра”), изд. книжн. сектора Губоно, Л., 1925, гл. IV (глава эта печат.
первоначально в журн. “Образование”, 1904, V); Горький М., Н. Г. Гарин-Михайловский, журн. “Кр. новь”, 1927, IV; Его же, Сочин., т. XIX, Берлин, 1927.
III. Владиславлев И. В., Русские писатели, изд. 4-е, Гиз, 1924; Его же, Литература великого десятилетия, т. I, Гиз, М., 1928.
2. Максим Сырников . Откуда я такой взялся…
а вот из лив-журнала ныне живущего (и не менее удивительного потомка Н. Гарина) Максима Сырникова:
Прадеда звали Николай Георгиевич Михайловский, он же писатель Гарин-Михайловский. Если вы не читали целиком “Детство Тёмы” или фильм не смотрели, снятый по этой книге, то, возможно, помните хотя бы историю со старым колодцем, откуда Тёма Жучку вытащил…
А ещё он был путешественником и строителем ТрансСиба. И город Новосибирск именно ему обязан своим появлением на карте. Впрочем — о нём столько написано, что если интересно — отыщете без труда.
Детей у них было много.
Моя бабушка, которую я так и не застал на этом Свете — на большой семейной фотографии — в заднем ряду справа.
Юноша в том же ряду, похожий на Блока — Сергей Николаевич , выпускник пажеского корпуса, друг графа
Рядом с ним — Артемий Николаевич , прообраз литературного Тёмы. Он воевал с большевиками, отплыл с последним пароходом в Стамбул, там сошёл с ума и умер.
В первом ряду сидит Георгий Николаевич Михайловский . Человек с потрясающей биографией. Через несколько лет он станет самым молодым за всю историю МИДа товарищем (по-нынешнему — заместителем) министра иностранных дел, Сазонова.
Потом, когда Троцкий министерство разгонит — пешком уйдет через всю страну к Деникину, потом у Врангеля будет работать в международном ведомстве. Дальше — Турция, Франция, Чехия, Словакия. Он преподавал, писал стихи, издавал книги. Когда Советская Армия вошла в Братиславу — пришёл к коменданту города и сообщил, что сам русский и хочет служить России. Спустя два года он умер в донецких лагерях.
Четырнадцать лет назад издательство МИДа выпустило двухтомник его записок “Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914-1920 ″ — с предисловием, в котором безвестный редактор написал: “..след автора теряется в эмиграции”…
Сын Георгия Николаевича, Николай Георгиевич — дядя Ника, жив и почти здоров, живёт в Братиславе. Мы с ним переписываемся по электронной почте.
А ещё я довольно много знаю об отце Гарина-Михайловского, своём пра-прадеде. Звали его Георгием Антоновичем, был он генералом лейб-гвардии уланского полка. Крёстным отцом его детей, в том числе и моего прадеда, был Государь, Николай Павлович.
Да и сам прадед, хоть и не был военным, но на войне бывал. В 1887 году, в действующей армии руководил постройкой железной дороги в болгарском Бургасе, освобождённом русскими от турок.
http://kare-l.livejournal.com/117148.html Реакционно-кулинарный ЖЖурнал.
Не хочу конституции. Хочу севрюжины с хреном.
3. Бялый Г. А.
Гарин-Михайловский
// История русской литературы
: В 10 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом).
Т. X. Литература 1890-1917 годов
. - 1954. - С. 514-528.
1
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский начал свою литературную деятельность немолодым человеком. Когда появились первые его произведения - «Детство Темы
» и «Несколько лет в деревне
», начинающему автору было сорок лет
. Он был талантливый инженер-путеец; известны были также его смелые эксперименты в области сельского хозяйства.
Богатство практического опыта толкнуло его к писательству. Впоследствии Гарин любил говорить о том, что в его сочинениях выдуманных образов совсем нет, что его сюжеты взяты прямо из жизни. Он считал себя беллетристом-наблюдателем и часто указывал на свою дописательскую жизнь, на биографию инженера Михайловского, как на прямой бытовой источник беллетристики писателя Гарина.
Н. Г. Михайловский родился в 1852 году в семье богатого дворянина Херсонской губернии Георгия Антоновича Михайловского, яркий портрет которого нарисован писателем в «Детстве Темы». Учился он в Одессе - сначала в немецкой школе, потом в Ришельевской гимназии, изображенной в «Гимназистах». В 1869 году он окончил гимназию и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Не выдержав испытаний при переходе на второй курс, Н. Г. Михайловский перешел в Институт путей сообщения . Этот шаг определил его судьбу. В деятельности инженера Михайловский нашел свое призвание. Окончив в 1878 году институт, он отдался работе по строительству железных дорог с увлечением и страстью. На этой работе развернулся его незаурядный технический талант и проявились способности крупного организатора. Уже став известным писателем, Михайловский не оставил своей инженерной деятельности. Русское железнодорожное строительство многим обязано Н. Г. Михайловскому: ряд новых железных дорог был создан при его ближайшем участии. Он работал по сооружению Бендеро-Галацкой железной дороги, Батумской , Уфимско-Златоустовской , Казанско-Малмыжской , Кротовко-Сергиевской и некоторых других. Смерть помешала осуществлению двух одинаково дорогих для него замыслов: окончанию повести «Инженеры» и постройке южнобережной дороги в Крыму. Пропаганда узкоколейных железных дорог волновала Н. Г. Михайловского не менее, чем журнальные и литературные предприятия. Идею строительства узкоколейных, преимущественно подъездных путей он проводил на практике и в печати в течение многих лет, нападая на ее противников и преодолевая барьеры министерского бюрократизма и профессиональной рутины.
Борьба инженера Михайловского с казенщиной не раз приводила его к крутым столкновениям с начальством и временами заставляла покидать любимую работу. После первой своей отставки в 1880 году Михайловский, тогда еще далекий от литературных планов, решил заняться рациональным сельским хозяйством. Он купил имение в Бугурусланском уезде Самарской губернии , чтобы произвести там ранее задуманный социально-экономический эксперимент в духе того утопического прожектерства, которое характерно было для либерального народничества 80-90-х годов. Михайловский стремился не только к технической рационализации и механизации своего хозяйства.
«Программа заключалась в том, чтобы, не щадя усилий и жертв, повернуть реку жизни в старое русло, где река текла много лет тому назад, восстановленье общины, уничтожение кулаков », - так формулировал Михайловский свои тогдашние цели много лет спустя в очерках «В сутолоке провинциальной жизни ».1
Опыт Н. Г. Михайловского по самой утопической сущности своей был обречен на неудачу. Огромная энергия и самоотверженность экспериментатора не привели ни к чему. Озлобленные кулаки, выселенные Михайловским из его владений, а затем вернувшиеся на старые места уже в качестве рядовых общинников, разорили устроителя общины систематическими поджогами. К тому же и рядовая масса средних крестьян обнаружила равнодушие и недоверие к либерально-народническим затеям своего помещика.
Неудавшийся опыт стоил Михайловскому большого состояния; он даром потерял несколько лет жизни, но в результате своего хозяйственного краха он приобрел трезвое сознание никчемности либерально-народнического реформаторства. Приобрел он также литературную известность. Изложенная им скорее для себя, чем для печати, история его хозяйства оказалась значительным литературным произведением. В 1890 году рукопись была прочтена на собрании писателей в присутствии Н. Н. Златовратского, Н. К. Михайловского, В. А. Гольцева, К. С. Станюковича и других и привлекла их внимание. Заинтересованный личностью Н. Г. Михайловского и его трудом, Станюкович в 1891 году навестил писателя в его имении. Ознакомившись с отрывками из «Детства Темы», Станюкович, не колеблясь, признал литературное дарование автора. Эта встреча укрепила Н. Г. Михайловского в его литературных замыслах; она превратила его из литератора-дилетанта в профессионального писателя. В том же 1891 году Н. Г. Михайловский встретился с А. И. Иванчиным-Писаревым и под его влиянием заинтересовывается проектом обновления «Русского богатства». Он заложил свое имение и дал средства для покупки журнала у его владельца Л. Е. Оболенского. Журнал перешел в руки народнической артели писателей, а официальным издателем его стала жена Н. Г. Гарина Надежда Валериановна Михайловская. В 1892 году печатаются в «Русской мысли» «Несколько лет в деревне», а в обновленном «Русском богатстве» - «Детство Темы». Н. Гарин прочно входит в литературу.
2
Основное содержание очерков Гарина «Несколько лет в деревне» - это скептицизм по отношению ко всякого рода попыткам изменить народную жизнь на основе прекраснодушных мечтаний и проектов, оторванных от реального направления исторической жизни. Технические и хозяйственные мероприятия автора, о которых он рассказывает в своих очерках, несомненно, рациональны; все они как будто клонятся к народной пользе, крестьяне понимают это, они ценят «справедливость», «доброту» и энергию своего руководителя-опекуна, а дело между тем расползается, целый ряд непредвиденных препятствий толчками разрушает налаженную машину, и все заканчивается крахом. Ощущение сложности жизни проникает книгу Гарина от начала до конца. Бесплодность социального филантропизма, нереальность политики частичных улучшений развертывается перед читателем с убеждающей силой живого примера и правдивого свидетельского показания. Народ, как показывает Гарин, стремится к коренному земельному преобразованию в общегосударственном масштабе и потому не может не относиться скептически ко всяким попыткам «облагодетельствовать» отдельную его часть в масштабе местном и ограниченном. Стремление «личности» повести за собой «толпу» сильно отдает в глазах крестьян крепостнической окраской, и народнически настроенному либеральному помещику в разговорах с крестьянами приходится с сердцем обрывать невольно возникающие у них аналогии с крепостническими временами. К тому же народ далеко не удовлетворяется укреплением общинных порядков при сохранении современной системы земельных отношений; его мечтания гораздо более радикальны.
Так, рисуя столкновение экономической программы либерального народника с широкими демократическими стремлениями крестьянской массы, устанавливает Гарин истинный масштаб позднего народнического реформаторства. Вспоминая о тяжелой личной неудаче, о крахе заветных надежд и планов, Гарин был очень далек от того, чтобы обвинить в своей неудаче народную массу. В его книге нет чувства обиды, нет явного или скрытого разочарования в народе. Напротив, личная неудача Гарина именно потому и стала его литературной победой, что он понял и показал народную массу не как стихию косного сопротивления, а как силу живую и творческую.
То, что обычно трактовалось как пресловутая крестьянская «многотерпеливость», в изображении Гарина приобретает совсем другой смысл: настойчивости, выносливости, самозащиты.
В своем повествовании Гарин вскрывает и черты крестьянской косности, отсталости, но эти черты для него следствие ненормальных условий крестьянской жизни: без земли, без знания, без оборотного капитала крестьянин так же «вянет», как сонная рыба в садке; свободное течение жизненной реки оживит и укрепит его. В исторически сложившемся народном характере для этого имеется все необходимое: «сила, выносливость, терпение, непоколебимость, доходящие до величия, ясно дающие понять, отчего русская земля „стала есть“» (IV, 33).
«Прочтите пожалуйста в Русской Мысли, март, „Несколько лет в деревне“ Гарина, - писал А. П. Чехов Суворину 27 октября 1892 года. - Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка - сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй».1
3
Под влиянием голода 1891 года и последовавшего за ним холерного года еще более окрепли в сознании Гарина те выводы, к которым он пришел в очерках «Несколько лет в деревне».
Сборник рассказов «Деревенские панорамы» (1894), рассказы «Сочельник в русской деревне» и «На ходу» (1893) посвящены жизни разоренных деревень, доведенных до крайней степени обнищания. «В некультурных условиях одинакова дичают: и человек, и животное, и растение», - таков эпиграф к одному из рассказов, входящих в состав «Деревенских панорам» («Матренины деньги»). Гарин видит два полюса деревенского одичания: физическое вырождение крестьянской массы под влиянием нищеты и голода и моральное одичание кулацкой верхушки деревни. Второй род одичания представлен в рассказе «Дикий человек» (сборник «Деревенские панорамы»). Герой рассказа - кулак, сыноубийца Асимов, весь ушедший в жестокое накопление, потерявший человеческий облик и совершенно лишенный каких бы то ни было нравственных задатков. Это одичание безнадежное и неисправимое: человек превратился в дикого зверя, оборвав моральные связи с человеческим обществом. Зато «одичание» первого рода само в себе несет источник возрождения: под влиянием голодного бедствия народ не просто никнет и чахнет, он выделяет из себя «праведников», просветленных горячим инстинктом взаимопомощи («На селе»), подвижниц энергичной и деятельной материнской любви («Акулина»), носителей мечты о справедливости, которая должна, наконец, притти к несчастным беднякам, забытым сейчас на этой изнывшей земле («Сочельник в русской деревне»).
Мотив «неустроенной земли», звучащий в серии деревенских рассказов Гарина, наполнен конкретным и даже практическим содержанием. Неустроенность земли - это для Гарина прежде всего культурная и техническая отсталость, неправильная, пережившая себя организация борьбы человека с природой. Технический прогресс облегчит положение народа, спасет его от окончательной гибели, а в будущем, при изменении общественного строя, он поставит освобожденного от эксплуатации человека лицом к лицу с природой, с безличным и сильным врагом, но «врагом честным, великодушным, добросовестным».
Изображая настроения народной массы, Гарин с увлечением прослеживает ростки технической мысли в народе. В рассказе «На ходу» рабочий Алексей, рассуждая о хлебных ценах, смутно, ощупью наталкивается на идею элеватора; при этом получается так, что к технической идее привело его не только хозяйственное чутье, но и оппозиционное чувство. Так, техника выступает у Гарина в качестве орудия социальной справедливости.
Энтузиазм технического прогресса нашел отражение в ряде рассказов Гарина из жизни инженеров. В раннем очерке «Вариант» (1888) дешевое и быстрое строительство железных дорог рассматривается как национально-героический подвиг современности, равный самым великим победам народа в прошлом. Инженер Кольцов, предложивший технически наиболее целесообразный вариант пути и сумевший отстоять этот вариант, подается автором как фигура яркая, смелая, почти героическая. История его борьбы за свой технический вариант передана с воодушевлением и подъемом, как рассказ об эпическом подвиге.
Трудовой героизм одинаково увлекает писателя, в чем бы он ни проявлялся: будет ли это подвиг живой изыскательской мысли инженера или незаметный, но талантливый труд рядового машиниста. Виртуозная работа машиниста Григорьева в рассказе «На практике» вызывает у автора чувство одновременно эстетического и гражданского восторга. Не ограничиваясь объективной зарисовкой портрета этого мастера железнодорожного ремесла, писатель дополняет свой рассказ лирическим отступлением, -
гимном в честь неведомых тружеников, героически работающих в каторжных условиях, ежедневно рискующих жизнью.
В недостатке интереса к техническому преобразованию страны, к практической науке и точному знанию Гарин прежде всего винит интеллигенцию. В народе уже назревает сознание необходимости технического прогресса, но у него нет знания; у интеллигенции есть знания, но нет программы и цели, нет сознания новых задач. К такому выводу приходит он в упомянутом выше рассказе «На ходу». В этом же рассказе есть одна деталь, вскрывающая отношение Гарина к интеллигенции. Там выведена эпизодическая фигура врача холерной больницы, злобно ненавидящего народ, отзывающегося о нем с холодным презрением. Этот врач учился в 70-х годах, в самый разгар «идеализма», которому отдал дань в свое время. О своих былых увлечениях он вспоминает теперь с презрительной усмешкой: «Было дело… валял дурака» (VIII, 196). Эта эпизодическая фигура - одна из самых ненавистных для Гарина.
Разумеется, Гарин далек от мысли винить интеллигенцию за утрату народнических идеалов - он сам расстался с ними. Он отрицает пассивное отношение к жизни, отказ от общественной борьбы. Борьба, по Гарину, это вечный двигатель жизни, ее героическое начало. За счастье пережить хотя бы короткий порыв героизма настоящий человек не задумается отдать жизнь, потому что в это мгновение вспыхнут лучшие качества его характера: великодушие, мужество, альтруизм. Об этом говорит Гарин в рассказе «Два мгновения» (1896-1901), герой которого под влиянием внезапного порыва, презирая благоразумные предостережения, бросается в бурное море на спасение неизвестных ему людей и в своем порыве увлекает за собой других.
Гарин протестовал против настроений интеллигентского ренегатства и против всяческих ретроспективных утопий. В памфлетном рассказе «Жизнь и смерть» (1896) он противопоставляет «Хозяину и работнику» Л. Толстого двух других героев противоположного склада, живших иной жизнью и умерших иной смертью. Один из них - земский врач, с виду незаметный труженик, верный традициям 60-х годов, отдает все свои силы внешне не яркой, но по существу героической борьбе за «идеалы лучшей жизни, более справедливой и более равноправной» (VIII, 209), другой - исследователь-путешественник, сын мастерового, настоящий герой науки, замерзает в снегах Сибири «с рукой высоко поднятой, с заветным дневником в ней. Великий человек двигался до последнего мгновения. Вечно вперед. Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Л. Н. Толстой» (VIII, 211).
Мужество, сила духа, способность и наклонность к героизму, энергия, вера в жизнь - все эти качества, по Гарину, вырабатываются реже всего в представителях эксплуататорских классов, а чаще всего в людях труда, прошедших суровую жизненную школу, сумевших впитать в себя идеалы культуры и общественного долга.
Так складывается в сознании Гарина характерное для него единство трех категорий общественной жизни: категории идейной - наука, культура, точные знания; нравственной - мужество, вера в жизнь, борьба; социально-политической - демократизм, служение общественному долгу.
4
Наиболее ярким доказательством противочеловечной организации современного общества, «неустроенности» его, было для Гарина ненормальное положение детей в этом обществе. Тема детства встает в разных формах на протяжении всей литературной деятельности Гарина и тесно связывается с другими излюбленными его мотивами. В периоде детства и юности видит Гарин зародыши самых благородных человеческих качеств, которые с упорной и злой систематичностью искажаются и вытравляются современным ему обществом. Вопрос о том, как маленький человек, инстинктивно деятельный, великодушный и потенциально героичный, превращается в результате дурных общественных влияний в дряблого, неустойчивого, слабохарактерного обывателя, - этот большой и сложный социально-психологический вопрос Гарин сделал предметом самого значительного своего произведения, широко известной трилогии «Детство Темы
» (1892), «Гимназисты
» (1893) и «Студенты
(1895).
В раннем детстве Тема Карташев обладает всеми качествами, естественное и свободное развитие которых должно было сделать его настоящим человеком, превосходным работником общества, деятельным строителем жизни. Мальчик смел и предприимчив, он весь трепещет неопределенным, но сильным стремлением к неизведанному, его тянет к далеким берегам и к чужим, таинственным странам; он полон инстинктивного уважения к простым и честным людям; в нем живет то естественное чувство демократизма, которое стирает сословные грани и превращает генеральского сына в члена буйной ватаги уличных мальчишек . Но с детства обрушивается на него постыдное унижение порки; гимназический мундир кладет резкую и непроходимую грань между ним и товарищами; школа настойчиво и систематически прививает яд морального разложения, требовательно приучая к фискальству, к доносу. В этих условиях приходится жить, к ним нужно приспособиться или вступить с ними в борьбу, но борьбе не учит ни школа, ни семья: и там, и тут высшей добродетелью признаются покорность и примирение с обстоятельствами. Так начинается в жизни Карташева длинный ряд падений и тяжких компромиссов с совестью - этот прямой путь к предательству и ренегатству. Первое предательство, совершенное им в детстве по отношению к школьному товарищу Иванову, переживается с тяжелым душевным надрывом, с болью и безысходной тоской, как подлинная трагедия. Но сразу же раздаются слова, внушающие маленькому Карташеву мысль о поправимости несчастья, о смягчающих его вину условиях, о возможности примирения между ним и жертвой его малодушия; поступок Карташева обволакивается возвышенно-лицемерными словами, цель которых - примирить его с самим собой.
Пути Карташева и Иванова не раз встречаются, но эти пути никогда не сливаются. Иванов уходит в революционную борьбу, Карташев остается в обывательской среде. Иванов мелькает на пути Карташева и проходит по его жизни, как напоминание о его, Карташева, моральной неполноценности и в то же время как нечто ему чуждое и враждебное. На протяжении всей трилогии Карташев беспрерывно вступает в соприкосновение с ивановским, революционным, началом. Еще в гимназии, не сочувствуя радикальному кружку, он старается сблизиться с ним, повинуясь какому-то смутному инстинкту социальной мимикрии. Будучи членом молодого содружества передовых гимназистов, он все время бессознательно ищет такой путь, который позволил бы ему примирить принадлежность к кружку
с сохранением привычных своих бытовых связей. Соприкасаясь по книгам с революционными идеями, он чувствует противоположность мира, куда зовут книги, с ходом привычной жизни, в орбите которой он только и может представить себя, - такого, какой он есть. Наедине с собой он смотрит на эти книги, как на дело рук неопытного идеалиста, не знающего жизни, которая имеет свои, совсем другие законы. Это противоречие между книгой и жизнью часто заставляет его принимать пессимистическую печоринскую позу: «жизнь пустая и глупая шутка», но все существо тянет его к примирению с этой жизнью, хотя она уже успела утратить для него непосредственное очарование и живые краски.
Чувство «святости жизни» потеряно Карташевым в раннем возрасте. Это очень ярко сказывается в его восприятии природы. Подобно книгам, природа также ощущается им как нечто обманчивое, фантастическое, вселяющее туманные, несбыточные надежды. Цельного переживания природы у Карташева уже нет; для его ущербного мировосприятия в огромном мире природы оказывается доступной лишь красота отдельных «мгновений», бликов, разрозненных «впечатлений», не соединяющихся в общую картину.
Ивановское, революционное, действенное отношение к миру и обществу непримиримо враждебно карташевской пассивной погоне за единичными жизненными «мгновениями». Карташев осознает это все более ясно и временами доходит до открытого, активного отречения от всего, что связано с Ивановым, от него исходит или его напоминает.
Враждебный революционному течению, - безотносительно к оттенкам революционной мысли 70-х годов, - Карташев все же чувствует потребность находиться где-то вблизи от этого течения. Эту черту карташевщины, намеченную в трилогии, Гарин развил несколько лет спустя в продолжении трилогии, в незаконченной повести «Инженеры». В повести «Инженеры» Гарин сделал неудачную попытку показать возрождение Артемия Карташева. Длинная цепь падений Карташева окончилась. В «Инженерах» начинается другая цепь - удач и восхождений. Каждый жизненный шаг Карташева на новом пути мало-помалу очищает его от грязи, прилипшей к нему за школьные и студенческие годы. Живой труд и общение с людьми труда излечивают в новой повести Гарина то, что ранее было представлено как неизлечимое заболевание души. Сестра Карташева, активная участница революционного движения, устраивает личное счастье Артемия и считает возможным для него возрождение общественное. Карташев, например, передает своей сестре-революционерке, участнице «Народной воли», деньги на революционную работу и хочет сохранить какую-то внешнюю связь с революционными кругами. Среди товарищей-инженеров он слывет «красным» и не только не разрушает этого представления, но старается поддержать его. Ему льстит также и то, что в воспоминаниях некоторых школьных товарищей сохранилась за ним, благодаря его принадлежности к кружку, репутация «столпа революции».
Образ Карташева, как он дан в «Инженерах», значительно проигрывает в своей характерности. Повествование о типическом явлении превращается в рассказ об исключительном случае, о почти чудесном перевоплощении человека. Между тем, в предшествующих частях романа ясно и убедительно было показано, что люди, подобные Карташеву, к перерождению не способны. Поэтому по идейной и художественной ценности «Инженеры» значительно уступают «Детству Темы», «Гимназистам» и «Студентам».
5
В очерках «Несколько лет в деревне» Гарин шел по пути Глеба Успенского с его трезвым, скептическим отношением к народническим иллюзиям. В области жанра и стиля он также продолжает в этом произведении традиции радикально-демократического очерка 60-70-х годов. Художественные зарисовки картин деревенской жизни, чередующиеся с авторскими рассуждениями публицистического характера, с экономическими экскурсами, с кусками деловой прозы, - вся эта манера у Гарина связана прежде всего с Г. И. Успенским.
Что касается знаменитой трилогии Гарина-Михайловского, то к ней тянутся нити и от классических для русской литературы повестей о «детстве» и от культурно-исторического романа Тургенева. Тургеневский роман, как известно, наложил заметный отпечаток на все литературное движение 70-80-х годов, и радикально-демократические романы, повести и рассказы того времени, стремившиеся отразить нового человека эпохи, новые оттенки общественной мысли, смену идейных поколений, во многом обнаруживали свое литературное родство с тургеневским романом.
Наряду с таким типом повествования, бок о бок с ним, развивался и другой вид культурно-исторической повести, отчасти схожий с тургеневским, а в значительной степени и противоположный ему. Речь идет о повестях и романах типа «Николая Негорева» И. Кущевского. В центре этих романов также стоит «новый» человек, олицетворяющий «веяния времени», но это человек социально и этически неполноценный, а «веяния времени» - враждебные прогрессивным устремлениям эпохи. Отображение, а часто и разоблачение социального ренегатства интеллигенции, анализ процесса «превращения героя в лакея», по выражению Горького, - такова задача этого рода произведений.
Тема «превращения героя в лакея» в разных формах и видах занимала видное место и в литературе 80-х годов. Реакционные и право-народнические литераторы старались вывернуть вопрос наизнанку, превратив лакея в героя, они пытались оправдать и опоэтизировать фигуру ренегата, представить его трагической жертвой «ложных теорий», человеком, искупающим свои былые «заблуждения» ценой тяжких душевных страданий. Этой тенденции, широко распространенной в литературе 80-90-х годов, писатели демократического направления противопоставляли борьбу за героическое начало в жизни. Борьба выражалась и в прямом разоблачении ренегатства, и в утверждении этической ценности социального героизма, нравственной красоты подвига, хотя бы и бесплодного, и в психологическом анализе зарождения общественного чувства у рядового интеллигента, в изображении перехода его от безидейности и безверия к общественным интересам и стремлениям. В этом литературном движении, направленном против «превращения героя в лакея», находит свое место и трилогия Гарина.
Заслуга Гарина заключается в том, что он сделал попытку нарисовать широкую картину, отражающую этот процесс. Он показал общественный механизм постепенного, почти незаметного вытравливания в человеке задатков общественной активности, стремления к перестройке жизни. Он вскрыл при этом не только социально-политическое содержание ренегатства буржуазной интеллигенции, но и ущербность ее общего отношения к миру, измельчание и разложение ее психики. Он показал, далее, приемы и формы сознательного и бессознательного приспособления людей этого типа к окружающей их революционной среде; он показал, следовательно,
возможность опасной внешней близости к революции людей, внутренно ей чуждых и враждебных.
6
Главные произведения Гарина - «Деревенские панорамы», «Детство Темы», «Гимназисты» и «Студенты» - печатались в «Русском богатстве», а на обложке журнала стояла фамилия его жены. Гарин воспринимался поэтому широкими читательскими и литературными кругами как один из идейных вдохновителей журнала, как соратник и единомышленник своего однофамильца Н. К. Михайловского. На деле это было не так. Гарин поручил Михайловскому руководство журналом не столько как теоретику и вождю народничества, сколько как талантливому «повару» литературной кухни, каким он его считал. В Михайловском Гарин видел также образованного публициста и полагал, что он сумеет проявить понимание новых запросов русской и европейской жизни, порождающих новые общественные и литературные течения.
В первые же годы существования «Русского богатства» Гарин убедился в ошибочности своих расчетов и со свойственной ему горячностью и прямотой не раз выражал резкое недовольство и общим духом журнала и работой отдельных его сотрудников. Так, экономические рассуждения народнических публицистов буквально приводили Н. Гарина в ярость. «…ограниченный народник со всем бессилием и слабостью мысли народника, - писал он в 1894 году о Н. Карышеве. - Наивен так, что стыдно читать. Не тот путь и не так налаживается эта громадная махина нашей жизни: неужели не видно? До каких же пор будем петь сказки, которым сами не верим, а не будем давать людям оружие борьбы… Бейте же этих самобытников, упершихся в стену и мошеннически отвлекающих ваше внимание: Южакова читать нельзя, от Карышева рвет - ведь это общий вопль… Право же вся эта компания годится для выпивки, но не для дела нового, а ведь старое провалилось. Ничего нет свежего и жизнь идет своим путем и не заглядывает к нам в журнал, как солнце в затхлый погреб».1
Не удовлетворял Гарина и беллетристический отдел журнала. Он горячо упрекал редактора этого отдела В. Г. Короленко за то, что тот «подает публике только подогретые блюда старой кухни». В 1897 году дело дошло до полного разрыва с «Русским богатством». Все счеты с народничеством были, таким образом, покончены. Общественные симпатии Гарина нашли другое русло: к тому времени он стал горячим сторонником молодого русского марксизма. Вряд ли Гарин представлял себе с полной ясностью всю теоретическую глубину марксистского учения, но он сумел увидеть в марксизме то «новое дело», которое пришло на смену обветшалому, провалившемуся народничеству. В марксизме он нашел и поддержку своей пропаганде технического прогресса.
«Его привлекала активность учения Маркса, - писал о Гарине Горький, - и когда при нем говорили о детерминизме Марксовой философии экономики, - одно время говорить об этом было очень модно, - Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как, впоследствии, спорил против афоризма Э. Бернштейна: „Конечная цель - ничто, движение - все“.
«- Это - декадентщина! - кричал он. - На земном шаре нельзя построить бесконечной дороги.»
«Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности».1
В 1897 году Гарин проводит большую работу по организации первой марксистской газеты в России «Самарский вестник ». Он становится издателем ее и членом редакционного коллектива. Свои новые произведения он помещает теперь в журналах легального марксизма - «Мир божий», «Жизнь», «Начало». В первой книге горьковских сборников товарищества «Знание» появляется его «Деревенская драма».
7
В конце 90-х годов и в начале XX века Гарин продолжает разработку старых своих тем и мотивов. Попрежнему он пишет очерки и рассказы из деревенской жизни; попрежнему занимает его детский мир, психология интеллигенции, проблема семьи и воспитания
и т. д. Но мотив «неустроенности» земли, общества, мира, приобретает теперь под его пером особую остроту и эмоциональность. Художественное отображение факта уже не удовлетворяет его больше. Наблюдение и анализ уступают место прямому обличению, памфлету и призыву. Авторский голос все чаще вторгается в повествование, но не для разъяснений, расчетов и экономических выкладок, даже не для полемики, как это бывало раньше, а для гневных выпадов, обвинений, для возмущенных указаний на противоестественность, на прямую преступность всего строя современного общества. В речи своих персонажей Гарин все чаще вкладывает авторские мысли, делая своих героев рупором собственного негодования.
«Не умирать страшно… мертвым хорошо, а вот жить как? Люди собак злее », - говорит дворник Егор в рассказе «Дворец Дима » (1899; I, 124), выражая свое и авторское отношение к положению детей, к преступному делению их на «законных» и «незаконных». «Собака маленького щенка никогда не тронет, а его, Дима, свои же кровные гонят и знать не хотят». «…грех, говорю, и чужую вещь украсть да спрятать, а вы душу детскую крадете да прячете». Устроителей и охранителей современного общества он называет здесь палачами, калечащими и убивающими души живые . Ту же кличку палачей бросает Гарин этим людям, столпам общества, почтенным либеральным деятелям, отцам семейств в другом рассказе («Правда», 1901), вкладывая ее в письмо женщины-самоубийцы, не вынесшей того ада, который называется добропорядочной обывательской буржуазной семьей. «И все вы мошенники, кровопийцы, разбойники», кричит исступленно старый еврей, выселяемый из своего дома.
Все рассказы Гарина второго периода его деятельности наполнены этими исступленными криками, возбужденными голосами, требовательными, негодующими возгласами. Настроение автора, понимающего сложность и запутанность жизни, бесплодность единоличных усилий в борьбе с неумолимым ее ходом, выражается теми же трагическими возгласами, что непосредственное чувство и его простых героев: «Но как же быть? Как возвратить полещуку его утерянный рай?.. Проклятие! Три проклятия! Что же делать?»
Обостренное восприятие трагизма и социальной неправды обыденной жизни современного общества сверху до низу - такова характерная черта произведений Гарина конца 90-х годов и начала XX века.
В 1898 году Н. Гарин предпринимает кругосветное путешествие . Он проезжает через всю Сибирь, через Корею и Манчжурию, до Порт-Артура, он посещает также Китай, Японию, Сандвичевы острова, Америку . С особенным вниманием наблюдает он Корею и Манчжурию, интересуясь, как всегда, бытом и нравами жителей, производительностью местности, ее хозяйственным укладом. Это путешествие дало Гарину материал для интересных путевых очерков «Карандашом с натуры», печатавшихся в 1899 году в «Мире божьем» и затем изданных отдельной книгой «По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову ». Заинтересовавшись корейским фольклором, Гарин при помощи переводчика усердно записывал сказки, которые он слышал от гостеприимных корейцев. Эти записи были также изданы в 1899 году отдельной книгой («Корейские сказки »). Во время русско-японской войны Гарин отправился в район военных действий в качестве корреспондента либерально-буржуазной газеты «Новости дня». Его корреспонденции, проникнутые демократическим настроением, жестоко урезывались военной цензурой. По окончании войны они были выпущены в свет отдельным изданием («Война. Дневник очевидца»). Путешествия и работа военным корреспондентом расширили кругозор Гарина. В особенности заинтересовался он жизнью угнетенных народов. Ни тени безразличного этнографизма не привносит он в изображение жизни угнетенных народов, напротив, зарисовки их быта всегда проникнуты у него особым чувством уважения к чужому, подчас непонятному и далекому строю жизни. При этом он видит в жизни этих народов не одни только невзгоды и тяготы, но всегда открывает элементы своеобразной культуры, красоты и высокой поэзии.
Хоровод молодых чувашек, поющих весенний гимн, вызывает в нем восхищение творческой силой угнетенного народа («В сутолоке провинциальной жизни», 1900). В очерках «По Корее, Манчжурии и Ляодунскому полуострову» перед читателем вырисовывается изображенный несколькими беглыми штрихами национальный тип ненца: «Неподвижный, как статуя, в своем белом балахоне, таком же белом, как его лайка, его белый медведь, его белое море и белые ночи, безжизненные, молчаливые, как вечное молчание могилы» (V, 60). Там же найдем мы и другой национальный тип русского севера - тип остяка, который «свое жалкое право на существование оспаривает у грозной водной стихии, у хозяина глухой тайги - медведя» (V, 61). Говоря об этих народах, Гарин не преминет упомянуть о людях «культуры», приносящих обитателям севера свои страшные дары: сифилис и водку. В этих же очерках и в «Корейских сказках» Гарин нарисовал поэтический образ мирного корейского народа, показав его повседневный быт и нравы, его хозяйственную жизнь, его поверья, легенды и общий национально-психологический облик: юмор, добродушие, поразительное благородство.
В поздних очерках Гарина интерес к жизни народов преобладает над всеми другими. Даже «Дневник во время войны » (1904), наряду с описанием военных действий, переполнен очерками и картинами жизни китайского народа. Гарин погружается в изучение «этого архива пятитысячелетней культуры» и посвящает целые страницы сельскохозяйственным методам китайцев, их умению «использовать землю, удобрять ее, выхаживать», их трудовым навыкам, их сложным и тонким играм и, как всегда, их национальному характеру.
Присматриваясь к жизни народов, которых Гарин включил и сферу своих наблюдений, и к жизни отдельных людей, он с особенной чуткостью и с радостным торжеством отмечает признаки перелома, роста нового, признаки возрождения, симптомы близких или уже начинающихся перемен. Ощущение конца неподвижности, предчувствие обновления жизни - характерная черта поздних литературных работ Гарина. В основе этого ощущения лежит у него вера в существование непреложных социальных законов, по которым развивается и движется вперед жизнь. Он отказывается признать без доказательств версию о пресловутой китайской неподвижности. В однообразии и тягучем прозябании русской провинции, жизнь которой зарисована в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» (1900), он прослеживает рост демократических сил. Он видит залог движения в небольшом еще передовом кружке, разрабатывающем новые этические и социально-экономические истины, «проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой». Он видит, как под влиянием оживления промышленной жизни растут умственные запросы народной массы, и с воодушевлением рассказывает, что молодые столяры и пчеловоды приучаются к чтению, выписывают журналы, увлекаются Горьким.
В период бурного подъема революционного движения в 1905 году в ряды революции пришли попутчики из буржуазной среды. Среди этих попутчиков революции был и Гарин. Узнав, что его старшие сыновья принимают участие в подпольной деятельности, он писал: «Сережу и Гарю целую и благословляю на благородную работу, о которой, если живы останутся, всегда будут радостно вспоминать. И какие это чудные будут воспоминания на заре их юности: свежие, сильные, сочные». «За детей не бойся , - убеждал он жену. - Мы живем в такое смутное время и вопрос не в том, сколько прожить, а как прожить ».1
Как свидетельствует его жена, во время пребывания в Манчжурии Гарин вел даже нелегальную работу по распространению в армии большевистской литературы.2
В 1906 году он вступил в редакцию большевистского журнала «Вестник жизни», проектируя вместе с тем создание нового органа, в котором литературно-художественный отдел был бы органически слит с общественно-политическим. 27 ноября 1906 года, при участии Гарина, на редакционном собрании «Вестника жизни» обсуждалась организация такого журнала. Здесь был прочитан, между прочим, одноактный драматический этюд Гарина «Подростки», из жизни революционной молодежи. На этом редакционном собрании Гарин скоропостижно скончался.
На протяжении пятнадцати лет своей литературной деятельности (1892-1906) Гарин утверждал понимание жизни как творчества, как работы по переустройству мира.
«Он был по натуре поэт, - пишет о нем М. Горький, - это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда , человеком с определенным уклоном к практике, к делу».
1. Об этом свидетельствуют и его литературные работы, и сама жизнь «этого талантливого, неистощимо бодрого человека».
2. Гарин отразил в своих произведениях тот период нашей истории, когда развернувшееся рабочее движение начало притягивать к себе широкие демократические слои населения, когда самой жизнью подтверждались взгляды марксистов, когда «социал-демократия появляется на свет божий, как общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия».
3. Он сам был ярким представителем этого периода в своей борьбе с народнической догматикой, с общественным застоем, с ренегатством буржуазной интеллигенции. Гарин был далек от ясного понимания конкретных путей и методов преобразования общества, но он сумел осознать необходимость и неизбежность великой перестройки человеческих отношений.
Гарин вошел в историю русской литературы как писатель-демократ, как крупный представитель критического реализма конца XIX века. Его творчество проникнуто духом активности, ненавистью к отживающим Формам жизни и ярким оптимизмом.
4. Максим Горький
О Гарине-Михайловском
Изредка в мире нашем являются люди, которых я назвал бы весёлыми праведниками.
Я думаю, что родоначальником их следует признать не Христа, который, по свидетельству евангелий, был всё-таки немножко педантом; родоначальник весёлых праведников, вероятно, Франциск Ассизский: великий художник любви к жизни, он любил не для того, чтоб поучать любви, а потому что, обладая совершеннейшим искусством и счастьем восторженной любви, не мог не делиться этим счастьем с людями.
Я говорю именно о счастье любви, а не о силе сострадания, заставившей Анри Дюнана создать международную организацию “Красного Креста” и создающей такие характеры, как прославленный доктор Гааз, практик-гуманист, живший в тяжёлую эпоху царя Николая Первого.
Но - жизнь такова, что чистому состраданию уже нет места в ней, и, кажется, в наше время оно существует только как маска стыда.
Весёлые праведники - люди не очень крупные. А может быть, они кажутся не крупными потому, что с точки зрения здравого смысла их плохо видно на тёмном фоне жестоких социальных отношений. Они существуют вопреки здравому смыслу, бытие этих людей совершенно ничем не оправдано, кроме их воли быть такими, каковы они есть.
Мне посчастливилось встретить человек шесть весёлых праведников; наиболее яркий из них - Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещёный еврей.
Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него как на пятно, затемняющее чистейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял, кажется, ещё в “эпоху великих реформ”. Тейтель — здравствует, о своей войне с министерством юстиции он сам рассказал в книге “Воспоминаний”, изданной им.
Да, он ещё благополучно здравствует, недавно праздновали его семидесяти- или восьмидесятилетний юбилей. Но он следует примеру А.В.Пешехонова и В.А.Мякотина, которые — как я слышал — “не присчитывают, а отсчитывают” года своей жизни. Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он всё так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре, в 95-96 годах.
Там, в его квартире, еженедельно собирались все наиболее живые, интересные люди города, впрочем — не очень богатого такими людями. У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и “джентльмена”, включая марксистов, сотрудников “Самарского вестника” и сотрудников враждебной “Вестнику” “Самарской газеты”, — враждебной, кажется, не столь “идеологически”, как по силе конкуренции. Бывали адвокаты-либералы и молодые люди неопределённого рода занятий, но очень преступных мыслей и намерений. Странно было встречать таких людей “вольными” гостями судебного следователя, тем более странно, что они отнюдь не скрывали ни мыслей, ни намерений своих.
Когда появлялся новый гость, хозяева не знакомили его со своими друзьями, и новичок никого не беспокоил, все были уверены, что плохой человек не придёт к Якову Тойтелю. Царила безграничная свобода слова.
Тейтель сам был пламенным полемистом и, случалось, даже топал ногами на совопросника. Красный весь, седые, курчавые волосы яростно дыбятся, белые усы грозно ощетинились, даже пуговицы на мундире шевелятся. Но это никого не пугало, потому что прекрасные глаза Якова Львовича сияли весёлой и любовной улыбкой.
Самоотверженно гостеприимные хозяева Яков Львович и Екатерина Дмитриевна, супруга его, ставили на огромный стол огромное блюдо мяса, зажаренного с картофелем, публика насыщалась, пила пиво, а иногда густолиловое, должно быть, кавказское вино, обладавшее привкусом марганцево-кислого калия; на белом это вино оставляло несмываемые пятна, но на головы почти не действовало.
Покушав, гости начинали словесный бой. Впрочем, бои начинались и во время процесса насыщения.
У Тейтеля я и познакомился с Николаем Георгиевичем Михайловским-Гариным.
Подошёл ко мне человек в мундире инженера путей сообщения, заглянул в глаза и заговорил быстро, бесцеремонно:
- Это вы - Горький, да? Недурно пишете. А как Хламида - плохо. Это ведь тоже вы, Хламида?
Я сам знал, что Иегудиил Хламида пишет плохо, очень огорчался этим, и поэтому инженер не понравился мне. А он пиявил меня:
— Фельетонист вы слабый. Фельетонист должен быть немножко сатириком, — а у вас этого нет. Юмор есть, но грубоватый, и владеете вы им неумело.
Очень неприятно, когда вот так наскочит на вас незнакомый человек и начнёт говорить правду в глаза вам. И - хоть бы ошибся в чём-нибудь, но - не ошибается, всё верно.
Стоял он вплоть ко мне и говорил так быстро, как будто хотел сказать очень много и опасался, что не успеет. Он был ростом ниже меня, и я хорошо видел его тонкое лицо, украшенное холёной бородкой, красивый лоб под седоватыми волосами и удивительно молодые глаза; смотрели они не совсем понятно, как будто ласково, но в то же время вызывающе, задорно.
— Вам не нравится, как я говорю? - спросил он и, точно утверждая своё право говорить неприятности мне, назвал себя: - Я - Гарин. Читали что-нибудь?
Я читал в “Русской мысли” его скептические “Очерки современной деревни” и слышал о жизни автора среди крестьян несколько забавных анекдотов. Сурово встреченные народнической критикой, “Очерки” весьма понравились мне, а рассказы о Гарине рисовали его человеком “с фантазией”.
Очерки - не искусство, даже не беллетристика, - сказал он, явно думая о чём-то другом, - это было видно по рассеянному взгляду его юношеских глаз.
Я спросил: правда ли, что он однажды засеял сорок десятин маком ?
Почему же непременно - сорок? - как будто возмутился Николай Георгиевич и, прихмурив красивые брови, озабоченно пересчитал: - Сорок грехов долой, если убъёшь паука, сорок сороков церквей в Москве, сорок дней после родов женщину в церковь не пускают, сорокоуст, сороковой медведь - самый опасный. Чорт знает, откуда эта сорочья болтовня? Как вы думаете?
Но, видимо ему было не очень интересно знать, как я думаю, потому что тотчас же, хлопнув меня по плечу маленькой, крепкой рукой, он сказал с восхищением:
— Но если б вы, батенька, видели этот мак, когда он зацвёл
!
Затем Гарин, отскочив от меня, устремился в словесное побоище, разгоревшееся за столом.
Эта встреча не вызвала у меня симпатии к Н.Г., мне почудилось в нём нечто искусственное. Зачем это он исчислял с’ороки? И не скоро привык я к его барственной щеголеватости, к “демократизму”, в котором мне сначала чудилось тоже что-то показное.
Был он строен, красив, двигался быстро, но изящно, чувствовалось, что эта быстрота не от нервной расшатанности, а от избытка энергии
. Говорил как будто небрежно, но на самом деле очень ловко и своеобразно построенными фразами. Замечательно искусно владел вводными предложениями, которые терпеть не мог А.П.Чехов. Однако я никогда не замечал у Н.Г. свойственной адвокатам привычки любоваться своим красноречием. В его речах всегда было “словам - тесно, мыслям - просторно”.
Должно быть, с первой встречи он часто вызывал впечатление, не очень выгодное для себя. Драматург Косоротов жаловался на него:
— Мне с ним хотелось о литературе побеседовать, а он меня угостил лекцией о культуре корнеплодов, потом говорил что-то о спорынье.
А Леонид Андреев на вопрос: как понравился ему Гарин? - ответил:
- Очень милый, умный, интересный, очень! Но - инженер. Это - плохо, Алексеюшка, когда человек - инженер. Я боюсь инженера, опасный человек! И не заметишь, как он приладит тебе какое-нибудь лишнее колёсико, а ты вдруг покатишься по чужим рельсам. Гарин этот очень склонен ставить людей на свои рельсы
, да, да! Напористый, толкается…
Николай Георгиевич строил ветку железной дороги от Самары на Сергиевские серные воды, и эта постройка сопряжена была у него со множеством различных анекдотов.
Понадобился ему локомотив какой-то особенной конструкции, и он заявил министерству путей сообщения о необходимости купить локомотив в Германии.
Но министр путей или Витте, запретив покупку, предложил заказать локомотив в Сормове или на коломенских заводах. Не помню, путём каких сложных и смелых ухищрений Гарин купил локомотив всё-таки за границей и контрабандно пригнал его в Самару ; это, должно быть, сохранило несколько тысяч денег и несколько недель времени, более дорогого, чем деньги.
Но он юношески восторженно хвастался не тем, что сэкономил время и деньги, а именно тем, что исхитрился пригнать контрабандно локомотив.
Вот это - подвиг! - восклицал он. - Не правда ли?
Казалось, что “подвиг” был вызван не столько силою деловой необходимости, сколько желанием преодолеть поставленное препятствие и даже проще: желанием созорничать. Как во всяком талантливом русском человеке, склонность к озорству была очень заметна в характере Н.Г.
Добр он был тоже по-русски. Деньги разбрасывал так, как будто они его отягощали и он брезговал разноцветными бумажками, на которые люди обменивают силы свои. Первым браком он был женат на богатой женщине, кажется, дочери генерала Черевина, личного друга Александра Третьего. Но её миллионное состояние он в краткий срок истратил на сельскохозяйственные опыты и в 95-96 годах жил личным заработком. Жил широко, угощая знакомых изысканными завтраками и обедами, дорогим вином. Сам ел и пил так мало, что нельзя было понять: чем же питается его неукротимая энергия? Любил делать подарки и вообще любил делать приятное людям, но не для того, чтоб расположить их в свою пользу, нет, этого он легко достигал обаянием своей талантливости и “динамичности”. Принимая жизнь как праздник, он бессознательно заботился, чтоб и окружающие его так же принимали её.
Невольным участником одного из анекдотов, походя создававшихся Гариным, оказался и я. Как-то утром, в воскресенье, я сидел в редакции “Самарской газеты”, любуясь моим фельетоном, который был вытоптан цензором, как овсяное поле лошадью. Вощёл сторож, ещё совершенно трезвый, и сказал:
— Вам часы привезли из Сызрани.
В Сызрани я не был, часов не покупал, о чём и заявил сторожу. Он ушёл, пробормотал что-то за дверью и снова явился:
— Еврей говорит: вам часы.
— Позови.
Вошёл старенький еврей в стареньком пальто и невероятной формы шляпе, недоверчиво осмотрел меня и положил на стол предо мною листок отрывного календаря, на листке неразборчивым почерком Гарина было написано: “Пешкову Горькому” и ещё что-то, чего нельзя было понять.
— Это вам дал инженер Гарин?
— А я знаю? Я же не спрашиваю, как зовут покупателя, - сказал старик.
Протянув руку, я предложил ему:
— Покажите часы.
Но он отшатнулся от стола и, глядя на меня, как на пьяного, спросил:
— Может, есть другой Пешков-Горьков - нет?
- Нет. Давайте часы и уходите.
- Ну, хорошо, хорошо, - сказал еврей и, пожав плечами, ушёл, а часов не дал мне. Через минуту сторож и ломовой извозчик внесли большой, но не тяжёлый ящик, поставили его на пол, а старик предложил мне:
- Распишите на записку, что получили.
- Это что такое? - осведомился я, показывая на ящик; еврей равнодушно ответил:
- Вы знаете: часы.
- Стенные
?
- Ну да. Десять часов
.
- Десять штук часов
?
— Пусть будет штук.
Хотя всё это было смешно, но я сердился, потому что и еврейские анекдоты не всегда хороши. Они особенно плохи, когда не понимаешь их или когда приходится самому играть в анекдоте роль глупую. Я спросил старика:
— что значит всё это?
- Подумайте, кто же едет из Самары в Сызрань покупать часы?
Но еврей тоже почему-то осерчал.
— А какое мне дело думать? - спросил он. - Мне сказали: сделай! И я сделал. “Самарская газета”? Верно. Пешков-Горьков? И это верно. И распишитесь на записку. Что вы от меня хотите?
Я уже ничего не хотел. А старик, видимо, думал, что его втянули в какую-то тёмную историю, у него дрожали руки, и он ломал пальцами поля своей шляпы. Он так смотрел на меня, что я почувствовал себя виноватым в чем-то пред ним. Отпустив его, я попросил сторожа убрать ящик в корректорскую.
Дней через пять явился Николай Георгиевич, запыленный, усталый, но всё-таки бодрый. И тужурка инженера на нём - как его вторая кожа. Я спросил:
- Это вы прислали мне часы?
— Ах, да! Я, я. А - что?
И, с любопытством глядя на меня, он тоже спросил:
- Что вы думаете делать с ними? Мне они совершенно не нужны.
Затем я услышал следующее: гуляя на закате солнца в Сызрани, по берегу Волги, Николай Георгиевич Гарин-Михайловский увидал мальчика-еврея, который удил рыбу .
— И всё, знаете, батенька, удивительно неудачно. Ерши клюют жадно, но из трёх два срываются. В чём дело? Оказалось, он ловит не на крючок, а на медную булавку.
Разумеется, мальчик оказался красавцем и необыкновенного ума . Человек, далёкий от наивности и не очень добродушный, Гарин чрезвычайно часто встречал людей “необыкновенного ума”. Видишь то, что сильно хочешь видеть.
— И уже изведавший горечь жизни, - продолжал он рассказывать. — Живёт у деда, часовщика, учится мастерству, ему одиннадцать лет. Он и дед - кажется, единственные евреи в городе. Ну и так далее. Пошёл с ним к деду.
Магазин скверненький, старик чинит горелки ламп, притирает самоварные краны. Пыль, грязь, нищета. У меня бывают припадки… сентиментальности.
Предложить денег? Неловко. Ну, я и купил весь его товар, а мальчишке дал денег. Вчера послал ему книг .
И совершенно серьёзно Н.Г. сказал:
— Если вам эти часы некуда девать, я, пожалуй, пришлю за ними. Можно отдать рабочим на ветке.
Он рассказал всё это, как всегда, торопливо, но несколько смущённо и, говоря, всё как-то отмахивался коротким, резким жестом правой руки.
Иногда он печатал в “Самарской газете” небольшие рассказы. Одни из них - “Гений” - подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления. Именно так: полуграмотный, чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное исчисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, поражённый горем, умер от лёгочного кровоизлияния на перроне станции Самара.
Написан был рассказ не очень искусно, но Н.Г. поведал в редакции на словах историю Либермана с поразительным драматизмом. Он вообще рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал. Как литератор он работал в условиях совершенно неподходящих, и удивительно, что он мог, при его непоседливости, написать такие вещи, как “Детство Тёмы”, “Гимназисты”, “Студенты”, “Клотильда”, “Бабушка”.
Когда “Самарская газета” попросила его написать рассказ о математике Либермане, он, после долгих увещаний, сказал, что напишет в вагоне, по дороге куда-то на Урал. Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привёз в редакцию извозчик с вокзала Самары. Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два ещё телеграмма:
“Присланное - не печатать, дам другой вариант”. Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл, кажется, из Екатеринбурга.
Писал он так неразборчиво, что рукопись нужно было расшифровывать, а это, конечно, несколько изменяло рассказ. Затем рукопись переписывалась знаками, доступными пониманию наборщиков. Вполне естественно, что, читая рассказ в газете, Н.Г. сказал, сморщив лицо:
— Чорт знает чего я тут наплёл!
Кажется, о рассказе “Бабушка” он сообщил:
— Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал.
Я видел черновики его книг о Маньчжурии и “Корейских сказок”; это была куча разнообразных бумажек, бланки “Отдела службы тяги и движения” какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; всё это исписано полусловами, намеками на буквы.
Как же вы читаете это?
- Ба! - сказал он. - Очень просто, ведь это мною написано.
Я думаю, что к себе, литератору, он относился недоверчиво и несправедливо. Кто-то похвалил “Детство Тёмы”.
- Пустяки, - сказал он, вздохнув. - О детях все хорошо пишут, о них трудно написать плохо.
И, как всегда, тотчас же уклонился в сторону:
- А вот мастерам живописи трудно написать портрет ребёнка, у них дети - куклы. Даже “Инфанта” Ван-Дейка - кукла.
С. С. Гусев, талантливый фельетонист “Слово-Глаголь”, попенял ему:
- Грешно, что вы так мало пишете!
— Должно быть, потому, что я больше инженер, чем литератор, - сказал он и невесело усмехнулся. - Инженер я тоже, кажется, не той специальности, мне нужно бы строить не по горизонталям, а по вертикальным линиям. Нужно было взяться за архитектуру.
Но о своей работе путейца он рассказывал прекрасно, с великим жаром, как поэт.
И так же отлично, увлечённо рассказывал темы своих литературных работ.
Помню две: на пароходе между Нижним и Казанью он говорил, что хочет писать большой роман на тему легенды о Цин Гиу-тонге, китайском дьяволе, который пожелал делать добро людям; в русской литературе легенду эту использовал старинный романист Рафаил Зотов. Герой Гарина, хороший, очень богатый фабрикант, которому скучно стало жить, тоже захотел делать добро людям.
Добродушный мечтатель, он вообразил себя Робертом Оуэном, наделал очень много смешного и, затравленный людями здравого смысла, умер в настроении Тимона Афинского.
В другой раз, ночью, сидя у меня в Петербурге, он совершенно изумительно рассказал мне случай, который ему хотелось изобразить:
— На трёх страницах, не больше!
Рассказ, насколько я его помню, таков: лесной сторож, человек углублённый в себя, подавленный одинокой жизнью и только чувствующий зверя в человеке, идёт к ночи в свою сторожку. Обогнал бродягу, пошли вместе.
Вялая и осторожная беседа людей, взаимно не верящих друг другу. Собирается гроза, в природе напряжение, над землёю мечется ветер, деревья прячутся друг за друга, жуткий шорох. Вдруг сторож почувствовал, что бродягу соблазняет желание убить его. Он старается идти сзади попутчика, но тот, явно не желая этого, шагает рядом. Оба замолчали. И сторож думает: всё равно, что бы он ни делал - бродяга убьёт его, - судьба! Пришли в сторожку, лесник накормил бродягу, поел сам, помолился и лёг, а нож, которым резал хлеб, оставил на столе да ещё перед тем, как лечь, осмотрел ружьё, стоявшее в углу у печки. Разыгралась гроза. Гром в лесу гудит особенно жутко и молнии страшнее. Хлещет ливень, сторожка дрожит, как будто сорвалась с земли и плывёт. Бродяга посмотрел на нож, на ружьё, встал и надел шапку.
- Куда? - спросил лесник.
- Уйду я, ну тя к чорту.
- Зачем?
— Знаю! Убить меня хочешь ты.
Сторож схватил его, говорит:
— Полно, брат! Я ведь думал: ты меня убить хочешь. Не уходи!
— Уйду! Уж коли оба думали об этом, значит: одному не жить.
И ушёл бродяга. А сторож, оставшись один, сел на лавку, заплакал скупыми, мужицкими слезами.
Помолчав, Гарин спросил:
- А может быть, не надо, чтобы плакал? Хотя он говорил мне: заплакал я горько. Я спрашиваю: “О чём?” - “Не знаю, Николай Егорович, — сказал он, - горестно стало”. Может быть, сделать так, чтобы бродяга не уходил, а сказал бы что-нибудь, например: “Вот, братец ты мой, каковы мы люди!” Или просто: легли бы они спать?
Было видно, что эта тема очень волнует его и что он остро чувствует тёмную глубину её. Рассказал он очень тихо, почти шопотом, быстренькими словами; чувствовалось, что он прекрасно видит лесника, бродягу, синий блеск молний в чёрных деревьях, слышит гром, и вой, и шорох. И странно было, что этот изящный человек, с таким тонким лицом и руками женщины, весёлый, энергичный, носит в себе такие тяжёлые темы. Не похоже это на него, общий тон его книг - лёгкий, праздничный. Н.Г.Гарин улыбался людям, видел себя работником, нужным миру, и обладал бодрой, подкупающей
самоуверенностью человека, который знает, что он добьётся всего, чего хочет. Встречаясь с ним нередко, хотя всегда “наскоро”, ибо он вечно куда-то спешил, я помню его только бодрым, но не помню задумчивым, усталым, озабоченным.
А о литературе он почти всегда говорил нерешительно, стеснённо, пониженным тоном. И когда, спустя много времени, я спросил его:
— Написали о леснике?
Он сказал:
— Нет, это не моя тема. Это - для Чехова, тут нужен его лирический юмор.
Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса, и когда при нём говорили о детерминизме Марксовой философии экономики, - одно время говорить об этом было очень модно, - Гарин яростно спорил против этого, так же яростно, как, впоследствии, спорил против афоризма Э.Бернштейна: “Конечная цель - ничто, движение - всё”.
— Это - декадентщина! - кричал он. - На земном шаре нельзя построpить бесконечной дороги.
Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобождённого от крепких пут классовой государственности.
Он был по натуре поэт, это чувствовалось каждый раз, когда он говорил о том, что любит, во что верит. Но он был поэтом труда, человеком с определённым уклоном к практике, к делу. Нередко приходилось слышать от него чрезвычайно оригинальные и смелые утверждения. Так, например, он был уверен, что сифилис следует лечить прививкой тифа, и утверждал, что ему известен не один случай, когда сифилитики излечивались, переболев тифом. Он даже написал об этом: именно так излечился один из героев его книги “Студенты”. Тут он едва ли не оказался пророком, ибо прогрессивный паралич уже начинают лечить прививкой плазмодия лихорадки и учёные медики всё более часто говорят о возможности “паратерапии”.
Вообще Н.Г. был разносторонне, по-русски даровит и по-русски же разбрасывался во все стороны. Однако всегда было удивительно интересно слушать его речи о предохранении ботвы корнеплодов от вредителей, о способах борьбы с гниением шпал, о баббите, автоматических тормозах, - обо всём он говорил увлекательно.
Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н.Г., вспомнил о нём такими словами:
Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил .
А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Фёдор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, - и не только этих, - поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.
Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашён в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.
— Это провинциалы ! - недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приёма во дворце .
И рассказал о своём визите приблизительно так:
— Не скрою: я шёл к ним очень подтянувшись и даже несколько робея.
Личное знакомство с царём ста тридцати миллионов народа - это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но всё не о том, что должно бы интересовать царя , в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где её встречают вовсе не друзья и — не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда - зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьёзно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно:
“Вы кого подразумеваете?” Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы - молчат? Старая царица удивлённо поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо - обиженное.
Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырёх лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А - ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем было очень скучно .
Он и рассказал всё это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.
Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется, Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.
Над ним посмеялись:
- Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?
- Чорт бы их подрал, - возмущался он, - у меня тут серьёзное дело, и вот - надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть
!
Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.
У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:
- Надо бороться.
Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью “Биржевых ведомостей” в провинции, с распространением оврагов, вообще - бороться
!
— С самодержавием
, - подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н.Г. весело спросил его:
— Вы недовольны тем, что ваш враг - глуп, хотите поумнее, посильнее
?
Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:
- Это - кто сказал? Хорошо сказал.
Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н.Г.Гарин привёз мне для передачи Л.Б.Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пёструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П.М.Рутенбергом два ещё не разоблачённых провокатора - Евно Азеф и Татаров.
В другой - меньшевик Салтыков беседовал с В.Л.Бенуа о передаче транспортной техники “Освобождения” петербургскому комитету и, если но ошибаюсь, при этом присутствовал тоже ещё не разоблачённый Доброскок - Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И.Е.Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда,
торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, всё ещё веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришёл ко мне в комнату, из которой был выход к воротам дачи.
Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в тёмносинем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:
- Наши-то солиднее ваших.
— Сколько у вас бывает народа, - сказал Гарин и вздохнул. - Интересно живёте!
- Вам ли завидовать?
— А - что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро - шестьдесят лет, а что я сделал?
— “Детство Тёмы”, “Гимназисты”, “Студенты”, “Инженеры” - целая эпопея!
- Вы очень любезны, - усмехнулся он. - Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.
- Очевидно - нельзя было не писать.
— Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек…
Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.
— Вас, батенька, скоро посадят, - вдруг сказал он. - предчувствие. А меня закопают - тоже предчувствие.
Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:
— Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я - пошёл.
Это было последнее наше свидание. Он так и умер “на ходу”, — участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилёг на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.
1927 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые напечатано в журнале “Красная новь”, 1927, номер 4, апрель, под заглавием “Н.Г.Гарин-Михайловский”.
Воспоминания написаны в феврале-марте 1927 года в Сорренто.
В очерке М.Горьким допущена неточность. В действительности фамилия еврея, послужившего прототипом для героя рассказа Н.Г.Гарина-Михайловского, была Пастернак.
5. Гарин-Михайловский
Скиталец
Однажды, зайдя в редакцию “Самарской газеты”, в Самаре, в конце девятидесятых годов, я встретил там незнакомого мне седого человека барской наружности, разговаривавшего с редактором и при моем появлении вскинувшего на меня красивые и совершенно молодые, горячие глаза.
Редактор познакомил нас.
Седой человек с какой-то особенной непринужденностью отрекомендовался, пожимая мою руку своей маленькой холеной рукой.
— Гарин! — сказал он кратко.
— Это был известный писатель Гарин-Михайловский, произведения которого тогда часто появлялись в “Русском богатстве” и других толстых журналах. Его “Деревенские очерки” с большим вниманием и похвалой разбирала серьезная критика, а блестящая повесть “Детство Темы” признана была первоклассной.
Встреча в провинциальном городе с настоящим писателем, приехавшим из столицы, для меня была неожиданной.
Гарин был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с густыми, слегка вьющимися седыми волосами, с такой же седой, курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом, с красивым, породистым профилем, он производил впечатление незабываемое.
“Как красив он был в молодости!” — невольно подумалось мне.
Необыкновенный старик хорош был и теперь — с седыми волосами и огромными юношески пламенными глазами, с живым, подвижным лицом. Это лицо много пожившего все еще полного жизни человека, поседевшего и все еще юного, — именно следствие этих контрастов — обращало на себя внимание и было красиво не только нешней красотой, но и сквозившей в его чертах целой гаммой каких-то неукротимых и больших переживаний.
Гарин скоро ушел, а в редакции еще долго о нем говорили.
Оказалось, он затевал в городском театре постановку своей только что написанной пьесы, еще нигде не напечатанной и не поставленной.
Говорили, что пьеса — автобиографического содержания и в ней Гарин выводит себя и своих двух жен: первую, с которой давно развелся, и вторую — молодую. От обеих у Гарина куча детей, а жены, в противность обыкновению, знакомы между собой и очень дружны, ездят одна к другой в гости, а на представлении пьесы будут сидеть в одной ложе вместе с Гариным и детьми — всей семьей.
Пьесе по этому случаю предрекали успех скандала и полный сбор .
Я не помню теперь заглавия этой пьесы: в собрании сочинений Гарина ее не казалось, больше она нигде не ставилась, но в Самаре тогда была поставлена, прошла с большим успехом при переполненном театре. Гарин с семейством демонстративно сидел в литерной ложе между двумя своими женами, как бы не замечая пикантности своего положения, представляя из себя главнейший интерес для собравшейся публики. В пьесе ставилась проблема мирного разрешения семейной драмы, пережитой, как всем было известно, самим автором, присутствовавшим на представлении вместе с живыми главными персонажами ее.
Зачем Гарин сделал этот оригинальный опыт, не знаю, но он был в его духе.
Это был каприз чудака: с Гариным всю его жизнь происходили странные эпизоды.
Он путешествовал вокруг света, гостил в Корее и Японии. В России занимался главным образом инженерством: был опытным инженером-строителем, построил один железнодорожный путь не очень большой величины; был одним из претендентов на несостоявшуюся постройку южнобережной дороги в Крыму ; по временам ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий. Так, например, засеял однажды чуть ли не тысячу десятин маком, и когда, конечно, прогорел на этом, то все-таки с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых “красными цветами”.
Занимался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды. Иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки . В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью: если курица в обыкновенное время стоила в деревне пятнадцать копеек, то, покупая провизию для своих служащих, он приказывал платить за курицу не полтинник и не рубль, что было бы хоть с чем-нибудь сообразно, а примерно пять рублей, и это перевертывало в головах населения всякие представления о дешевизне и дороговизне. В моменты своих кипучих предприятий Гарин сорил деньгами, разбрасывая золото буквально горстями, не считая, как будто главной его целью было доставлять этой безумной щедростью удовольствие и людям, и себе. Все коммерческие предприятия Гарина, задуманные широко и талантливо, большею частью прогорали от его равнодушия к деньгам и детской доверчивости к обкрадывавшим его людям. Что его обкрадывают, он знал прекрасно, но находил это естественным, лишь бы дело было сделано.
И действительно: дела делались, потом лопались, но Гарина это не смущало — он тотчас же начинал пылать каким-нибудь новым замыслом, казавшимся ему “красивым”.
Был случай, когда его имение продавалось с аукциона в уплату долгов.
К третьему удару молотка вдруг явился Гарин и внес деньги, которые ему только что удалось у кого-то занять.
Кредиторы Гарина рассказывали мне, что однажды они, утомленные бесконечными отсрочками, пригласили его на собрание, твердо решившись поступить с ним беспощадно. Но явившийся Гарин так их околдовал, что они, сами не зная как, снова поддались очарованию его личности: слушая гаринское красноречие, вновь уверовали в явные фантазии.
Гарин как будто несерьезно относился к своим делам, словно играл с жизнью, почти всегда ставил на карту все, что имел.
Он всегда “танцевал на вулкане ”, вся его деловая деятельность походила на отчаянную скачку с препятствиями.
И Гарин действительно всю свою жизнь мыкался по свету в вечном угаре своих рискованных предприятий: то он плыл на океанском пароходе через Атлантический океан, совершая зачем-то кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или “корейскими сказками”, то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда спешно, с курьерским, мчался на Волгу или Урал.
Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гостиницы: редакции часто получали его рукописи, написанные с какой-нибудь случайной станции с пути его следования.
Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет
, так и Гарин писал — из внутренней потребности. Случайно оказалось, что повести и рассказы, очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, обнаруживают незаурядный талант, но Гарин и к таланту своему не мог отнестись серьезно и написал разве десятую часть того, что должен был написать, не проявив и сотой части того богатства, которое лежало в его душе. Для него главное было — сама жизнь, игра с препятствиями, волнения риска, воплощение красивых фантазий в действительность, постоянная бешеная скачка над краем пропасти.
Гарин до седых волос остался пылким юношей.
“Детство Темы” — лучшее его произведение, написано ясно, густо, блестящим и крепким языком, где, кажется, не найдешь ни одного лишнего или не на своем месте поставленного слова.
Вскоре после первой встречи мне пришлось познакомиться с Гариным ближе: в Самару проездом он заглядывал часто, так как у него были какие-то “дела” на Волге.
Через два-три месяца машинист вернулся в Самару — от должности отказался.
— Отчего же? — спросил я. — Не понравилось, что ли?
— Сердце не выдержало! Не мог я видеть равнодушно, как погибает там все на моих глазах — прекрасные английские машины ржавеют под открытым небом, занесенные снегом; великолепный конский завод — какие матки, какие породистые лошади! — падают, околевают одна за другой.
— С чего же падают?
— Да с голоду! Николай Георгиевич не распорядился о заготовке корма на зиму. С голоду все и передохли — смотреть было больно, не выдержал я и ушел, не потому, что жалованье получал неаккуратно, это бы ничего, обойтись можно, а так!
Оказалось, что Гарин, увлекшись какими-то новыми фантазиями и переживая какой-то горячий “ажиотаж”, “забыл” о своем имении, — и все пошло прахом.
Позднее, а именно в 1901 году, когда я жил в Самаре “под надзором” и не имел права выезда за черту города, мне захотелось устроить на службу к Гарину,тоже в имение, другого моего знакомого — техника.
Гарин, как всегда, будучи в городе “проездом” и обремененный тысячей “дел”, назначил свидание на пристани парохода, на котором он уезжал: разговор должен был произойти в несколько минут, во время посадки Гарина на пароход.
Когда я и мой знакомый подъехали на извозчике к пристани, раздался третий свисток, и пароход начал медленно отделяться от берега: были уже сняты сходни, Гарин в дорожном костюме, с сумкой через плечо, кричал нам с верхней площадки парохода:
— Скорее! Скорее! Прыгайте на пароход!
Колебаться и размышлять было некогда: мы оба перемахнули саженное расстояние над водой и очутились на отплывающем пароходе.
— Вот и отлично! — сказал Гарин моему приятелю. — Я уже решил пригласить вас на мои работы — в имение около Симбирска, и мы теперь вместе едем туда.
— А как же мне-то быть? — размышлял я вслух. — Надо с первой же остановки возвратиться!
— Пустяки! — сказал Гарин. — Семь бед — один ответ: все равно будет суд у мирового, я выйду свидетелем, что вы уехали нечаянно, заплатим штраф, и больше никаких! Поедемте ко мне в гости, в Тургеневку!
Гарин ехал не один, а с целой компанией: оказался еще какой-то молодой художник, и еще какой-то чертежник, и кто-то вроде секретаря при Гарине. Скоро наступила ночь; мы сели в рубке первого класса ужинать.
За ужином Гарин был в ударе и много рассказывал; рассказывать он умел артистически, обнаруживая заразительный юмор, тонкую наблюдательность и природную способность художника несколькими словами набрасывать целые картины.
Помню, рассказывал он различные эпизоды из своих путешествий вокруг света.
— Знаете, когда я увидел океан? Когда с неделю проплыл на этом чудовище, четырехэтажном океанском пароходе! Это целый город. Люди там живут, пьют, едят, танцуют, флиртуют, играют в шахматы и никакого океана не видят, забыли о нем: какая бы ни была волна, ничего не заметно! Мы сидели у большого зеркального окна на четвертом этаже, я играл с кем-то в шахматы. Вдруг пароход заметно накренился, и на один только момент я увидел до самого горизонта вздымающиеся горы вспененных, косматых, чудовищных волн, на меня глянул океан — седой, взбешенный старик!
Внезапно он сделал образное сравнение с русской жизнью и государственным кораблем, на котором люди плывут, играя в шахматы и не видя, что делается в океане.
— Говорят, новая волна идет, новая заря занимается! — со вздохом добавил он. — А как вспомнишь, сколько раз эта заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз новая волна поднималась, а потом обращалась в затишье, то, право же, не знаешь, куда бы уйти подальше и от этой намалеванной зари и от этих самых волн
!
Увы! Заря скоро погасла. Занималась и погасала несколько раз и после Гарина, а “волны” вскоре забросали его до смерти.
Вся публика рубки, сидевшая за другими столами, с необычайным вниманием прислушивалась к блестящим рассказам Гарина. Наконец, когда он вышел, меня остановил человек почтенной наружности, по виду — купец.
— Скажите, пожалуйста, кто этот красивый старик, который сидит с вами?
— Это писатель Гарин! — ответил я.
— А-а! — с еще большей почтительностью воскликнул он. — Гарин!.. Знаю, читал! Ах, какой красивый человек!
Такое впечатление производил Гарин даже на тех людей, которые не знали, что это известный писатель Гарин-Михайловский.
Барский дом в Тургеневке, отдельно стоявший от села на берегу Волги, на вершине горы, поросшей строевым, дремучим бором, был интересным, старинным зданием, уцелевшим чуть ли не с пушкинских времен. Когда мы вошли в огромный, высокий зал с целым рядом саженных венецианских окон, меня поразил необычайных размеров камин, в котором, казалось, можно было жечь не поленья, а целые бревна. По стенам висели старинные гравюры; одна из них представляла взбесившуюся тройку, которая мчалась прямо на зрителя, в пропасть.
— Вот моя жизнь! — сказал между прочим Гарин, со смехом указывая на картину. — Только это я и люблю!
Он переоделся, вышел к нам в высоких сапогах, синих рейтузах в обтяжку, в венгерке со шнурками, и в этом костюме был чрезвычайно подходящ ко всей обстановке старинного замка в стиле рыцарских времен; вероятно, не без кокетства перед самим собой оделся он так, особым художественным чутьем угадывая гармонию обстановки и костюма, а может быть, чувствовал это бессознательно.
Гарин не был собственником имения, он только арендовал его у настоящих хозяев, по-видимому медленно, но верно приближавшихся к разорению и давно уже не заглядывавших в родовое “дворянское гнездо”. У Гарина было здесь “лесное дело”. Он снял великолепный сосновый бор “на сруб” и сплавлял лес по Волге.
После чая пошли смотреть “лесное дело”.
— Я сейчас покажу вам “деревянную железную дорогу”! — заявил нам хозяин.
Конечно, это была одна из гаринских “фантазий”: для подвоза бревен к обрыву горы были проложены деревянные рельсы, по которым лошадьми ходили дроги на особых, вагонного устройства, деревянных колесах. Хотя колеса эти часто сходили с рельсов, вызывая остановки, тем не менее остроумная выдумка облегчала тяжесть перевозки. С обрыва бревна спускали прямо к берегу Волги по особо устроенному желобу, по которому проведена была вода, чтобы бревна не загорались.
Августовский день был ясный, солнечный. Волга сверкала как зеркало. Зеленый бор звонко гудел под теплым ветром. Постояли над обрывом, полюбовались величавой картиной Заволжья: с вершины горы горизонт был виден на сто верст кругом.
Приставив к делу всех приехавших с нами молодых людей, Гарин к вечеру вдвоем со мной уехал на лошадях в Симбирск. Нам подали рессорную коляску с открытым верхом, запряженную тройкой прекрасных вороных лошадей: Гарин любил езду. Всю ночь ехали мы с ним по звонкой ровной степной дороге.
Ночь была светлая, лунная, зачарованная безмолвием безграничных русских полей.
И мне казалось, что неугомонный человек, у которого давно уже образовалась страсть к вечному мыканию с места на место, никогда более не захочет и не сможет изменить свою тревожную жизнь, полную вечной смены впечатлений, на спокойную, кабинетную работу, какая нужна была ему, если бы он захотел сделаться “серьезным” писателем.
На рассвете подъехали мы к Симбирску с противоположного берега, переправились на лодке прямо на пароходную пристань, где уже стоял пароход, отправлявшийся в Нижний, куда, собственно, и ехал Гарин.
Здесь я намеревался расстаться с ним и, дождавшись парохода сверху, возвратиться в Самару, но чудак стал уговаривать отправиться с ним в Нижний.
Гарин умел очаровывать людей, и, очарованный, я уступил: очень уж это был интересный и “красивый” человек, как метко выразился о нем купец, восхитившийся им на пароходе.
Путешествие кончилось тем, что по возвращении из Нижнего я был вежливо приглашен жандармским ротмистром, зашедшим ко мне тихим летним вечером, в самарскую тюрьму, где и отсидел месяц, пока разбирали дело о моей “таинственной” отлучке.
В день выхода моего из тюрьмы Гарин опять оказался “проездом” в Самаре и, считая себя отчасти виновником моего “сидения”, явился ко мне с компанией и с кульком разнообразных бутылок. При входе в квартиру он передал кулек моей матери.
Старушка поставила на стол две бутылки белого вина, и мы выпили.
По уходе Гарина она сообщила мне, что в кульке есть еще какая-то большая бутылка, оставшаяся неподанной: оказалось — шампанское лучшей марки, которым Гарин хотел приветствовать мое освобождение, но по недоразумению бутылка так и осталась нераскупоренной.
Года через два, проживая в Москве, я ехал на святки в приволжское село и в вагоне случайно встретился с Гариным. Он был, по своему обычаю, бодр и весел, шутил.
— Вы теперь переживаете эпоху литературной славы! — сказал он мне. — Сочувствую и очень рад за вас! Я тоже был когда-то в славе, и “первоклассным” был, и все такое! Всякое бывало!
— Почему же были? — возразил я. — Вы были, и есть, и будете одним из лучших русских писателей!
— Нет, уж мое время прошло, наступает чье-нибудь еще! Так было… так будет! А я вот недавно имение купил без гроша в кармане — вот это штука! Даже расходы по купчей бывшая владелица за меня заплатила!
— Как же это так?
— А так! Почтенная женщина, давно меня знает, встретились вот так же, как мы сейчас с вами. “Вам, говорит, непременно надо купить мое имение, оно вам подходит, и вам я бы продала”. — “Да у меня денег нет!” — “Пустяки. Не надо никаких денег!” Ну, купил вот, сам не знаю зачем, имение-то с переводом долга — еду теперь туда; говорят, хорошее имение, красивое, Белый Ключ называется, совсем близко оттуда, куда вы едете! Ба! — вскричал вдруг Гарин, как бы
осененный внезапной мыслью. — Непременно приезжайте ко мне под Новый год! Всего двадцать верст от станции, я и лошадей пошлю! Непременно! У меня там вся семья:
и жена, и дети, везу вот всякие финтифлюшки для елки. Будем Новый год встречать вместе.
Я, конечно, согласился приехать в Белый Ключ и свое обещание исполнил. Это была встреча 1903 года.
Когда под Новый год я высадился на указанной станции, меня действительно ожидала гаринская пара вороных, запряженная цугом, или, как говорят на Волге, гусем; кругом лежали глубокие снега, трещал сильнейший мороз, как и полагается в России под Новый год.
С холоду, что ли, кровные кони мчались как бешеные, и ямщик всю дорогу, что называется, висел на вожжах, а черные, злые, взмыленные лошади в серебряной сбруе неслись как в сказке, обдавая меня пеной со своих удил, смешанной с кровью, и целым облаком серебристой снежной пыли. Двадцать верст мы пролетели в час — никогда я не испытывал такой быстрой езды на лошадях!
Темной ночью подъехали к ярким огням барского дома. Там уже сияла елка, и сквозь морозные окна было видно, как в комнате двигались тени. Около дома был пруд, теперь замерзший и покрытый снегом, осененный старыми ветлами в кружевной парче морозного инея. Должно быть, красивое место!
Дом был полон гостей, елка сверкала огнями, кто-то играл на рояле, собирались петь хором.
Тут я впервые познакомился с женой Гарина, Верой Александровной Садовской, и их детьми, тогда еще школьного возраста и ниже. Старшую дочь звали Верой, среднюю — Никой, а маленькую девочку — Вероникой.
Родители тоже были Вера и Ника! Вера и Ника в итоге давали Веронику. Даже при наречении имен своим детям неунывающий родитель “играл” красивыми словами.
Вера Александровна происходила из семьи миллионеров Садовских, выросла буквально во дворцах и, соединяя свою судьбу с бурной судьбой Гарина, имела, говорят, значительный капитал, который, конечно, и был ею скоро истрачен на широкие фантазии беззаветно любимого супруга.
В юности она была красавицей, но теперь — в возрасте тридцати с лишком лет — преждевременно располнела, хотя все еще была хороша; в особенности красивы были ее глаза и длинные, чуть не до земли, золотистые, пышные волосы, которые в распущенном виде могли покрыть всю ее фигуру.
Наконец-таки Гарин “отдыхал” в кругу любящей семьи, дети обожали его, жена сияла от счастья: ведь большую часть года они только скучали и мечтали о нем, вечном путешественнике, и настоящее свидание было редким праздником для них.
Наутро после завтрака Гарин с семьей и я гуляли по имению, катались на лыжах, а после обеда пошел снег, задула метель, к подъезду подкатили новые сани, запряженные цугом, черные, злобные, пышущие кони взвились как черти и опять понесли нас с ним куда-то.
Весной 1905 года, незадолго до внезапного окончания войны России с Японией, Гарину удалось получить миллионный государственный подряд на поставку сена для русской армии.
Я жил тогда недалеко от Петербурга, в Финляндии, в дачной местности Куоккала: в тех местах проживали многие писатели и художники. В Куоккала же поселился с семьей и Гарин.
Получение миллионного аванса окрылило его в высшей степени, и началось чисто гаринское разбрасывание денег. Прежде всего он на специальном поезде (чего это стоило!) “на минутку” слетал из Куоккала в Париж, привез оттуда свежих фруктов для предполагаемой приятельской пирушки и дорогое бриллиантовое колье для супруги. На пирушке в его маленькой временной дачке мы ели настоящие французские груши, а Вера Александровна, в сверкающем крупными бриллиантами колье, сидела, как невеста, рядом с обожаемым супругом и в ответ на его шутки кокетливо опускала свои все еще прекрасные глаза.
Это был последний луч счастья в их жизни, полной превратностей. Уже с самого начала запахло плохими предчувствиями: пошли слухи, что Гарина окружили ненадежные люди, что вряд ли он справится с делом, что его оберут и подведут под суд.
Авансы раздавал он, конечно, полными горстями, не заглядывая в будущее, не разбираясь в людях, да он и знал по своему огромному опыту, что около такого огромного казенного костра без воровства не обойдется.
— Поедемте со мной! — пригласил он меня. — Будете у меня получать пятьсот рублей в месяц.
— Зачем я вам? — удивился я. — Ведь сенное дело мне, вы знаете, совсем незнакомо!
— Мне и не нужно, чтобы вы знали сенное дело! — возразил Гарин. — Знающие люди у меня есть, но они все — воры и мошенники! Вот я и хочу к ним приставить хоть одного честного человека, чтобы он мешал им.
Я рассмеялся, но, подумав, отказался от рискованного предприятия.
Гарин набрал массу людей для грандиозной организации сенокоса в полях Сибири и Маньчжурии. Вскоре спешно уехал.
Как и следовало ожидать, поставку не сделали к сроку: помешали дожди и еще какие-то неудачи, а в начале июля война неожиданно кончилась.
Казенные миллионы были истрачены, поставка осталась незаконченной. Предстоял скандальный процесс.
Осенью Гарин вернулся в Петербург. Надвигалось тревожное время — революция 1905 года. Гарин опять оказался без денег, измученный мыканием по Сибири, расстроенный провалом предприятия, но не унывающий и уже воспылавший новым увлечением — революцией.
Не давая себе ни отдыху, ни сроку, принялся за организацию журнала, который сам хотел издавать.
На редакционном заседании Гарин вдруг почувствовал себя дурно, схватился за сердце и, вскрикнув: “Подкатило!” — упал мертвым.
До утра лежал он на редакционном столе, накрытый простыней, седой и страшный. Писатель Гарин-Михайловский, через руки которого прошли миллионы рублей, умер, не оставив после себя ни копейки денег. Хоронить было не на что .
На похороны его была сделана подписка.
Подготовка текста — Лукьян Поворотов
Г. Якубовский, Яцко Т. В.
6. Н.Г.Гарин-Михайловский — основатель города Новосибирска
(http://www.prometeus.nsc.ru/gorod/garin/yazko.ssi)
Николай Георгиевич Михайловский (литературный псевдоним — Н.Гарин) родился 8 (20) февраля 1852 г. в Петербурге в семье военного. Детство и юность провел на Украине. После окончания Ришельевской гимназии в Одессе поступил на юридический факультет Петербургского университета, но затем перешел в Петербургский институт путей сообщения, который окончил в 1878 г.
До конца своей жизни он занимался изысканиями пути и строительством дорог — железных, электрических, канатных и других — в Молдавии и Болгарии, на Кавказе и в Крыму, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в Корее. “Его деловые проекты всегда отличались пламенной, сказочной фантазией ” (А.И.Куприн ). Он был талантливым инженером, неподкупным человеком, умеющим отстаивать свою точку зрения перед любыми инстанциями. Известно, сколько усилий приложил он, доказывая целесообразность строительства железнодорожного моста через реку Обь на его нынешнем месте, а не возле Томска или Колывани.
Дворянин по происхождению, Н.Г.Гарин-Михайловский сформировался как личность в эпоху общественного подъема в России 60-70-х годов. Увлечение народничеством привело его в деревню, где он неудачно пытался доказать жизненность “общинного быта”. Работая на строительстве железной дороги Кротовка — Сергиевские минеральные воды, в 1896 г. он организовал один из первых в России товарищеских судов над инженером, растратившим казенные деньги. Активно сотрудничал он в марксистских изданиях, а в последние годы жизни оказывал материальную помощь РСДРП. “Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса ”, — вспоминал М.Горький, а писатель С. Елпатьевский отмечал, что глаза и сердце Н.Г.Гарина-Михайловского “были обращены вперед, к светлому демократическому будущему России”. В декабре 1905 г. Н.Г.Гарин-Михайловский дал средства для покупки оружия участникам боев на Красной Пресне в Москве.
Широкую известность принесло Н.Г.Гарину-Михайловскому его литературное творчество. Его перу принадлежат автобиографическая тетралогия “Детство Темы” (1892), “Гимназисты” (1893), “Студенты” (1895), “Инженеры” (посмертно — 1907), повести, рассказы, пьесы, путевые очерки, сказки для детей, статьи по различным вопросам. Лучшие из его произведений пережили автора. До 1917 г. дважды выходило полное собрание его произведений. Книги Н.Г.Гарина-Михайловского и сегодня переиздаются и не задерживаются на прилавках книжных магазинов и полках библиотек. Доброта, искренность, знание глубин человеческой души и сложностей жизни, вера в разум и совесть человека, любовь к Родине и подлинный демократизм — все это и сегодня близко и дорого в лучших книгах писателя нашему современнику.
Н.Г.Гарин-Михайловский скончался 27 ноября (10 декабря) 1906 г. в Петербурге во время заседания в редакции легального большевистского журнала “Вестник жизни”. Он похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.
М.Горький в воспоминаниях о Н.Г.Гарине-Михайловском приводит его слова: “Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего…”
История Новосибирска, города, рождению которого инженер и писатель Н.Г.Гарин-Михайловский так действенно способствовал, подтверждает эти его слова.
7. Инженерные изыскаяния Гарина-Михайловского в Крыму
Весной 1903 года в Кастрополь прибыла изыскательная партия, возглавляемая Н.Г. Гариным-Михайловским, по строительству южнобережной электрической железной дороги связывавшей бы Ялту с Севастополем. Электричество для дороги должна была давать река Черная. С апреля по ноябрь 1903 года исследовательская партия во главе с Н. Гариным-Михайловским базировалась на кастропольских дачах Д. Первушина. Одновременно Гарин-Михайловский работал здесь над своей повестью «Инженеры ». За восемь месяцев работ экспедиция Гарина-Михайловского провела технико-экономические расчеты по двадцати двум вариантам трассы , их стоимость колебалось с 11,3 до 24 млн.рублей золотом. Гарин-Михайловский стремился осуществить проект основательно и по возможности с минимальными затратами, максимально снизив побочные расходы. На вопрос «Какая линия дороги будет предпочтительнее?» он неизменно отвечал: «та, что обойдётся дешевле при отчуждении земель, по которым она пройдёт, рекомендую землевладельцам и спекулянтам поумерить свои аппетиты».
Рассматривалось три варианта пути Севастополь — Ялта — Алушта, Симферополь — Ялта, Сюрень — Ялта. Наиболее целесообразным и экономически обоснованным был признан первый вариант, Севастополь — Ялта — Алушта, при этом дорога должна была пройти через Ласпинскую долину.
Однако у проекта нашлись критики, выдвинувшие тезис, что предполагаемая дорога «..отвечает амбициям Севастопольского градоначальства и чаяниям воров-подрядчиков..».
Гарин-Михайловский увлёкся проектированием, для него южнобережная трасса стала необычным сооружением. С Гариным-Михайловским приехал талантливый художник Панов , который работал над внешним обликом дороги.
В июле 1903 года в гостях у Гарина в Кастрополе несколько дней прожил писатель А. Куприн . По словам А.И.Куприна, Михайловский предполагал «... создать из коммерческого предприятия безпримерный памятник русского дорожного творчества … » Станции были запроектированы в мавританском стиле, дабы служить украшением побережья, технические элементы дороги оформлялись арками, гротами, водными каскадами. Современники, близко знавшие писателя-инженера, вспоминали, как он шутил, что постройка южнобережной железнодорожной дороги стала бы для него лучшим посмертным памятником. Гарин-Михайловский признавался Куприну, что лишь два дела своей жизни он непримерно желал бы выполнить до конца — электрическую железную дорогу в Крыму и повесть «Инженеры». Оба начинания ему помешала осуществить смерть в 1906 году.
Кастропольские изыскания Н. Гарина-Михайловского 1903 года положены в основу проекта новой автотрассы Севастополь - Ялта , построенной в 1972 году.
Косметология