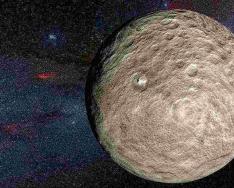Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Тэффи
Юмористические рассказы
…Ибо смех есть радость, а посему сам по себе – благо.
Спиноза. «Этика», часть IV.
Положение XLV, схолия II.
Выслужился
У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.
Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.
Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.
– Я с самого начала поняла, что он растяпа, – пела сдобным голосом кухарка. – Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому – Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала – в печке не помешал и с головешкой закрыл.
Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:
– Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал…
– Не иначе как домой отослать.
– Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!
Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.
– Так ведь выть-то еще рано, – снова поет кухарка. – Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила… А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.
– Ну, дай ему Бог…
– А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно…
– А и Дуняшка хороша! – закрутила тетка рогами. – Не пойму я такого народа – на мальчишку ябеду пущать…
– Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», – ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар…
– Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пито, не…
– Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду…
Трррр… – затрещал электрический звонок.
– Лешка-а! Лешка-а! – закричала кухарка. – Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.
Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.
«Нет, дудки, – думал Лешка, – в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».
И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.
«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».
Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит – жилец дома.
Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.
Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.
«Я парень не дурак, – думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. – Я те глаза намозолю. Я те не дармоед – я все при деле, все при деле!..»
Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.
– Вот, – сказал он с упреком, – наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.
Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.
– Ладно, ладно, иди уж, – смущенно успокаивал тот.
И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.
Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.
«Ишь, уставились, – подумал Лешка, – должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»
И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.
– Ты чего? – испугался тот.
– Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар… Дворника на лестнице…
– Пошел вон! Идиот!
Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.
– Поймет… – расслышал Лешка, – прислуга… сплетни…
У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:
– Ничего, ничего, мальчик… Вы можете не затворять двери, когда пойдете…
Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.
Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл ее.
Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.
«Чудак, – думал Лешка, уходя. – В комнате светло, а он пугается!»
Лешка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.
– Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкап запирает.
Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.
Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был набоку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:
«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».
Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом.
Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.
– Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.
Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая…
«Кошка! – сообразил он. – Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»
Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.
– Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..
На жильце лица не было.
– Ты с ума сошел, идиот несчастный! – закричал он. – Кого ты ругаешь?
– Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, – старался Лешка. – Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..
Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.
– Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, – испуганно и смущенно шептала она.
– Брысь, проклятая! – и Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.
– Господи, – взмолился жилец, – да уйдешь ли ты отсюда наконец?
– Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчерась в гостиной под портьерой…
И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.
Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.
– Я парень смышленый, – шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. – Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать.
На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит…
«Что он там делает? – удивился Лешка. – Словно пуговицу на ейном башмаке жует! Не… видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу…»
Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.
Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.
– Ничего там нету.
– Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? – крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.
– Я думал, обронили что-нибудь… Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит… Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла, – обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые.
– Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка, – вот и брошке, стало быть, конец…
– Ей-богу, правда, – успокаивал ее Лешка. – Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю… ей-Богу, как собака…
Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.
Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:
– Завтра косому черту крышка.
– Ну-у! – радостно удивилась та. – Рази что говорили?
– Уж коли я говорю, стало, знаю.
На другой день Лешку выгнали.
Проворство рук
На дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша:
«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.
Поразительнейшие фокусы, как то: сожигательство платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».
Из бокового окошечка выглядывала печальная голова и продавала билеты.
Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, разбухли, обливались серым мелким дождиком покорно, не отряхиваясь.
У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.
Стало темнеть.
Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.
Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.
– Ни одной дыры! Все серое! В Тимашеве прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар… В Обояни прогар, в Курске прогар… А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послал, голове послал, господину исправнику… всем послал. Пойду лампы заправлять.
Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.
– Чего им еще надо? Нарыв в голове или что?
К восьми часам стали собираться.
На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.
К половине десятого выяснилось, что больше никто не придет. А те, которые сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дольше становилось опасным.
Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.
Несколько секунд он стоял молча и думал:
«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен, – это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего! Головин сын на почетном месте – пусть себе. Но как я уеду и что буду кушать, это я вас спрашиваю.
И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу».
– Брраво! – заорал один из пьяных.
Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:
– Уважаемая публика! Позволю предпослать вам предисловием. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией. Этого на свете даже совсем не бывает. Нет! Далеко не так! То, что вы увидите здесь, есть не что иное, как ловкость и проворство рук. Даю вам честное слово, что никакого таинственного колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите необычайное появление крутого яйца в совершенно пустом платке.
Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки у него слегка тряслись.
– Извольте убедиться сами, что платок совершенно пуст. Вот я его вытряхаю.
Он вытряхнул платок и растянул руками.
«С утра одна булочка в копейку и чай без сахара, – думал он. – А завтра что?»
– Можете убедиться, – повторял он, – что никакого яйца здесь нет.
Публика зашевелилась, зашепталась. Кто-то фыркнул. И вдруг один из пьяных загудел:
– Вре-ешь! Вот яйцо.
– Где? Что? – растерялся фокусник.
– А к платку на веревочке привязал.
Смущенный фокусник перевернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.
– Эх ты! – заговорил кто-то уже дружелюбно. – Тебе за свечку зайти, вот и незаметно бы было. А ты вперед залез! Так, братец, нельзя.
Фокусник был бледен и криво улыбался.
– Это действительно, – говорил он. – Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а исключительно проворство рук. Извините, господа… – голос у него задрожал и пресекся.
– Ладно! Ладно!
– Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительнее. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит свой носовой платок.
Публика стеснялась.
Многие уже вынули было, но, посмотрев внимательно, поспешили запрятать в карман.
Тогда фокусник подошел к головиному сыну и протянул свою дрожащую руку.
– Я мог бы, конечно, и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.
Головин сын дал свой платок, и фокусник развернул его, встряхнул и растянул.
– Прошу убедиться! Совершенно целый платок.
Головин сын гордо смотрел на публику.
– Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Вот я свертываю его трубочкой, вот подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?
Публика вытягивала шею.
– Верно! – кричал пьяный. – Паленым пахнет.
– А теперь я сосчитаю до трех и – платок будет опять цельным.
– Раз! Два! Три!! Извольте посмотреть!
Он гордо и ловко расправил платок.
– А-ах! – ахнула и публика.
Посреди платка зияла огромная паленая дыра.
– Однако! – сказал головин сын и засопел носом.
Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.
– Господа! Почтеннейшая пу… Сбору никакого!.. Дождь с утра… не ел… не ел – на булку копейка!
– Да ведь мы ничего! Бог с тобой! – кричала публика.
– Рази мы звери! Господь с тобой.
Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.
– Четыре рубля сбору… помещенье – восемь рублей… во-о-о-осемь… во-о-о-о…
Какая-то баба всхлипнула.
– Да полно тебе! О, Господи! Душу выворотил! – кричали кругом.
В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне.
– Эт-то что? Расходитесь по домам!
Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам, молчали, вздыхали.
– А что я вам скажу, братцы, – вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.
Все даже приостановились.
– А что я вам скажу! Ведь подлец народ нонеча пошел. Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит. А?
– Вздуть! – ухнул кто-то во мгле.
– Именно что вздуть. Айда! Кто с нами? Раз, два… Ну, марш! Безо всякой совести народ… Я тоже деньги платил некрадены… Ну, мы ж те покажем! Жжива.
Покаянное
Старуха нянька, живущая на покое в генеральской семье, пришла от исповеди.
Посидела минуточку у себя в уголку и обиделась: господа обедали, пахло чем-то вкусным, слышался быстрый топот горничной, подававшей на стол.
– Тьфу! Страстная не Страстная, им все равно. Лишь бы утробу свою напитать. Нехотя согрешишь, прости господи!
Вылезла, пожевала, подумала и пошла в проходную комнату. Села на сундучок.
Прошла мимо горничная, удивилась.
– И штой-то вы, няничка, тут сидите? Ровно кукла! Ей-богу – ровно кукла!
– Думай, что говоришь-то! – огрызнулась нянька. – Эдакие дни, а она божится. Разве показано божиться в эдакие дни. Человек у исповеди был, а, на вас глядючи, до причастия испоганиться успеешь.
Горничная испугалась.
– Виновата, няничка! Поздравляю вас, исповедамшись.
– «Поздравляю!» Нынче разве поздравляют! Нынче норовят, как бы человека изобидеть да упрекнуть. Давеча наливка ихняя пролилась. Кто ее знает, чего она пролилась. Тоже умней Бога не будешь. А маленькая барышня и говорит: «Это, верно, няня пролила!» С эдаких лет и такие слова.
– Удивительно даже, няничка! Такие маленькие и так уже все знают!
– Нонешние дети, матушка, хуже акушеров! Вот они какие, нонешние-то дети. Мне что! Я не осуждаю. Я вон у исповеди была, я теперь до завтрашнего дня маковой росинки не глотну, не то что… А ты говоришь – проздравлять. Вон старая барыня на четвертой неделе говели; я Сонечке говорю: «Поздравь бабеньку». А она как фыркнет: «Вот еще! очень нужно!» А я говорю: «Бабеньку уважать надо! Бабенька помрет, может наследства лишить». Да кабы мне эдакую-то бабеньку, да я бы каждый день нашла бы с чем поздравить. С добрым утром, бабенька! Да с хорошей погодой! Да с наступающим праздником! Да с черствыми именинами! Да счастливо откушамши! Мне что! Я не осуждаю. Я завтра причащаться иду, я только к тому говорю, что нехорошо и довольно стыдно.
– Вам бы, няничка, отдохнуть! – лебезила горничная.
– Вот ужо ноги протяну, належусь в гробу. Наотдыхаюсь. Будет вам время нарадоваться. Давно бы со свету сжили, да вот не даюсь я вам. Молодая кость на зубах хрустит, а старая поперек горла становится. Не слопаете.
– И что это вы, няничка! И все вас только и смотрят, как бы уважить.
– Нет, уж ты мне про уважателей не говори. Это у вас уважатели, а меня и смолоду никто не уважал, так под старость мне срамиться уж поздно. Ты вон лучше кучера пойди спроси, куды он барыню намедни возил… Вот что спроси.
– Ой, и что вы, няничка! – зашептала горничная и даже присела перед старухой на корточки. – Куды ж это он возил? Я ведь, ей-богу, никому…
– А ты не божись. Божиться грех! За божбу, знаешь, как Бог накажет! А в такое место возил, где шевелющих мужчин показывают. Шевелятся и поют. Простынищу расстилают, а они по ней и шевелятся. Мне маленькая барышня рассказала. Самой, вишь, мало, так она и девчонку повезла. Сам бы узнал, взял бы хворостину хорошую да погнал бы вдоль по Захарьевской! Сказать вот только некому. Разве нынешний народ ябеду понимает. Нынче каждому только до себя и дело. Тьфу! Что ни вспомнишь, то и согрешишь! Господи прости!
– Барин человек занятой, конешно, им трудно до всего доглядеть, – скромно опустив глаза, пела горничная. – Они народ миловидный.
– Знаю я барина твоего! С детства знаю! Кабы не идти завтра к причастию, рассказала бы я тебе про барина твоего! С детства такой! Люди к обедне идут – наш еще не продрыхался. Люди из церквы идут – наш чаи с кофеями пьет. И как его только, лежебоку, дармоедину, Матерь Святая до генерала дотянула – ума не приложу! Уж думается мне: украл он себе этот чин! Где ни на есть, а украл! Вот допытаться только некому! А я уж давно смекаю, что украл. Они думают: нянька старая дура, так при ней все можно! Дура-то, может, и дура. Да не всем же умным быть, надо кому-нибудь и глупым.
Горничная испуганно оглянулась на двери.
– Наше дело, няничка, служебное. Бог с им! Пущай! Не нам разбирать. Утром-то рано в церкву пойдете?
– Я, может, и совсем ложиться не буду. Хочу раньше всех в церкву придти. Чтоб всякая дрянь вперед людей не лезла. Всяк сверчок знай свой шесток.
– Это кто же лезет-то?
– Да старушонка тут одна. Ледащая, в чем душа держится. Раньше всех, прости господи, мерзавка в церкву придет, а позже всех уйдет. Кажинный раз всех перестоит. И хоша бы присела на минуточку! Уж мы все старухи удивляемся. Как ни крепись, а, пока часы читают, немножко присядешь. А уж эта ехида не иначе как нарочно. Статочное ли дело эстолько выстоять! Одна старуха чуть ей платок свечкой не припалила. И жаль, что не припалила. Не пялься! Чего пялиться! Разве указано, чтобы пялиться. Вот приду завтра раньше всех да перестою ее, так небось форсу посбавит. Видеть ее не могу! Стою сегодня на коленках, а сама все на нее смотрю. Ехида ты, думаю, ехида! Чтоб тебе водяным пузырем лопнуть! Грех ведь это – а ничего не поделаешь.
– Ничего, няничка, вы теперь исповедамшись, все грехи батюшке попу отпустили. Теперь ваша душенька чиста и невинна.
– Да, черта с два! Отпустила! Грех это, а должна сказать: плохо меня этот поп исповедовал. Вот когда в монастырь с тетушкой с княгинюшкой ездили, вот это можно сказать, что исповедовал. Уж он меня пытал-пытал, корил-корил, три епитимьи наложил! Все выспросил. Спрашивал, не думает ли княгиня луга в аренду сдавать. Ну, я покаялась, сказала, что не знаю. А энтот живо скоро. Чем грешна? Да вот, говорю, батюшка, какие у меня грехи. Самые старушьи. Кофий люблю да с прислугами ссорюсь. «А особых, – говорит, – нет?» А каки таки особые? Человеку кажный свой грех особый. Вот что. А он вместо того, чтобы попытать да посрамить, взял да и отпуск прочел. Вот тебе и все! Небось деньги-то взял. Сдачи-то небось не дал, что у меня особых-то нет! Тьфу, прости господи! Вспомнишь, так согрешишь! Спаси и помилуй. Ты чего тут расселась? Шла бы лучше да подумала: «Как это я так живу, и все не по-хорошему?» Девушка ты молодая! Вон воронье гнездо на голове завила! А подумала ли ты, какие дни стоят. В эдакие дни эдак себя допустить. И нигде от вас, бесстыдниц, проходу нет! Исповедамшись пришла, дай – думала – посижу тихонько. Завтра ведь причащаться идтить. Нет. И тут доспела. Пришла, натурчала всякой пакости, какая ни на есть хуже. Чертова мочалка, прости господи. Ишь, пошла с каким форсом! Не долго, матушка! Все знаю! Дай срок, все барыне выпою! – Пойтить отдохнуть. Прости господи, еще кто привяжется!
Юмористические рассказы
…Ибо смех есть радость, а посему сам по себе – благо.
Спиноза. «Этика», часть IV.Положение XLV, схолия II.
Выслужился
У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.
Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.
Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.
– Я с самого начала поняла, что он растяпа, – пела сдобным голосом кухарка. – Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому – Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала – в печке не помешал и с головешкой закрыл.
Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:
– Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал…
– Не иначе как домой отослать.
– Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!
Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.
– Так ведь выть-то еще рано, – снова поет кухарка. – Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила… А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.
– Ну, дай ему Бог…
– А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно…
– А и Дуняшка хороша! – закрутила тетка рогами. – Не пойму я такого народа – на мальчишку ябеду пущать…
– Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», – ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар…
– Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пито, не…
– Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду…
Трррр… – затрещал электрический звонок.
– Лешка-а! Лешка-а! – закричала кухарка. – Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.
Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.
«Нет, дудки, – думал Лешка, – в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».
И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.
«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».
Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит – жилец дома.
Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.
Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.
«Я парень не дурак, – думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. – Я те глаза намозолю. Я те не дармоед – я все при деле, все при деле!..»
Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.
Великий пост. Москва.
Гудит далёким глухим гулом церковный колокол. Ровные удары сливаются в сплошной тяжкий стон.
Через дверь, открытую в мутную предутренней мглой комнату, видно, как, под тихие, осторожные шорохи, движется неясная фигура. Она то зыбко выделяется густым серым пятном, то снова расплывается и совсем сливается с мутной мглой. Шорохи стихают, скрипнула половица и ещё одна – подальше. Всё стихло. Это няня ушла в церковь, к утрене.
Она говеет.
Вот тут делается страшно.
Девочка свёртывается комочком в своей постели, чуть дышит. И всё слушает и смотрит, слушает и смотрит.
Гул становится зловещим. Чувствуется беззащитность и одиночество. Если позвать – никто не придёт. А что может случиться? Ночь кончается, наверное, петухи уже пропели зорю, и все привидения убрались восвояси.
А «свояси» у них – на кладбищах, в болотах, в одиноких могилах под крестом, на перекрёстке глухих дорог у лесной опушки. Теперь никто из них человека тронуть не посмеет, теперь уже раннюю обедню служат и молятся за всех православных христиан. Так чего же тут страшного?
Но восьмилетняя душа доводам разума не верит. Душа сжалась, дрожит и тихонько хнычет. Восьмилетняя душа не верит, что это гудит колокол. Потом, днём, она будет верить, но сейчас, в тоске, в беззащитном одиночестве, она «не знает», что это просто благовест. Для неё этот гул – неизвестно что. Что-то зловещее. Если тоску и страх перевести на звук, то будет этот гул. Если тоску и страх перевести на цвет, то будет эта зыбкая серая мгла.
И впечатление этой предрассветной тоски останется у этого существа на долгие годы, на всю жизнь. Существо это будет просыпаться на рассвете от непонятной тоски и страха. Доктора станут прописывать ей успокаивающие средства, будут советовать вечерние прогулки, открывать на ночь окно, бросить курить, спать с грелкой на печени, спать в нетопленой комнате и многое, многое ещё посоветуют ей. Но ничто не сотрёт с души давно наложенную на неё печать предрассветного отчаяния.

Девочке дали прозвище «Кишмиш». Кишмиш – это мелкий кавказский изюм. Прозвали её так, вероятно, за маленький рост, маленький нос, маленькие руки. Вообще, мелочь, мелюзга. К тринадцати годам она быстро вытянется, ноги станут длинными, и все забудут, что она была когда-то кишмишом.
Но, будучи мелким кишмишом, она очень страдала от этого обидного прозвища. Она была самолюбива и мечтала выдвинуться как-нибудь и, главное, – грандиозно, необычайно. Сделаться, например, знаменитым силачом, гнуть подковы, останавливать на ходу бешено мчащуюся тройку. Манило также быть разбойником или, пожалуй, ещё лучше – палачом. Палач – могущественнее разбойника, потому что он одолеет, в конечном счёте. И могло ли кому-нибудь из взрослых, глядя на худенькую, белобрысую, стриженую девочку, тихо вяжущую бисерное колечко, – могло ли кому-нибудь прийти в голову, какие грозные и властные мечты бродят в её голове? Была, между прочим, ещё одна мечта – это быть ужасной уродиной, не просто уродиной, а такой, чтобы люди пугались. Она подходила к зеркалу, скашивала глаза, растягивала рот и высовывала язык набок. При этом предварительно произносила басом, от имени неизвестного кавалера, который лица её не видит, а говорит в затылок:

– Разрешите пригласить вас, мадам, на кадриль.
Потом делалась рожа, полный оборот и следовал ответ кавалеру:
– Ладно. Только сначала поцелуйте мою кривую щёку.
Предполагалось, что кавалер в ужасе убегает. И тогда ему вслед:
– Ха! Ха! Ха! Небось не смеешь!
Кишмиш учили наукам. Сначала – только Закону Божию и чистописанию.
Учили, что каждое дело надо начинать молитвой.
Это Кишмиш понравилось. Но имея в виду, между прочим, и карьеру разбойника, Кишмиш встревожилась.
– А разбойники, – спросила Кишмиш, – когда идут разбойничать, тоже должны молиться?
Ей ответили неясно. Ответили: «Не говори глупостей». И Кишмиш не поняла, – значило ли это, что разбойникам не надо молиться, или что непременно нужно, и это настолько ясно, что и спрашивать об этом глупо.

Когда Кишмиш подросла и пошла в первый раз к исповеди, в душе её произошёл перелом. Грозные и властные мечты погасли.
Очень хорошо пели постом трио «Да исправится молитва моя».
Выходили на середину церкви три мальчика, останавливались у самого алтаря и пели ангельскими голосами. И под эти блаженные звуки смирялась душа, умилялась. Хотела быть белой, лёгкой, воздушной, прозрачной, улетать в звуках и в дымах кадильных туда, под самый купол, где раскинул крылья белый голубь Святого Духа.
Тут разбойнику было не место. И палачу и даже силачу совсем тут быть не подходило. Уродина-страшилище встала бы куда-нибудь за дверь и лицо бы закрыла. Пугать людей было бы здесь делом неподходящим. Ах, если бы можно было сделаться святой! Как было бы чудесно! Быть святой – это так красиво, так нежно. И это – выше всего и выше всех. Это – важнее всех учительниц и начальниц и всех губернаторов.
Но как сделаться святой? Придётся делать чудеса, а Кишмиш делать чудес ни капельки не умела. Но ведь не с этого же начинают. Начинают со святой жизни. Нужно сделаться кроткой, доброй, раздать всё бедным, предаваться посту и воздержанию.
Теперь, как отдать всё бедным? У неё – новое весеннее пальто. Вот его, прежде всего, и отдать.
Но до чего же мама рассердится. Это будет такой скандал и такая трёпка, что и подумать страшно. И мама расстроится, а святой не должен никого расстраивать и огорчать. Может быть, отдать бедному, а маме сказать, что просто пальто украли? Но святому врать не полагается. Ужасное положение. Вот разбойнику – тому легко жить. Ври, сколько влезет, и ещё хохочи коварным смехом. Так как же они делались, эти святые? Просто дело в том, что они были старые, – все не меньше шестнадцати лет, а то и прямо старики. Они и не обязаны были маму слушаться. Они прямо забрали всё своё добро и сразу его раздали. Значит, с этого начинать нельзя. Это пойдёт под конец. Начинать надо с кротости и послушания. И ещё с воздержания. Есть надо только чёрный хлеб с солью, пить – только воду прямо из-под крана. А тут опять беда. Кухарка насплетничает, что она пила сырую воду, и ей достанется. В городе – тиф, и мама сырую воду пить не позволяет. Но, может быть, когда мама поймёт, что Кишмиш – святая, она препятствий делать не будет?

А как чудесно быть святой. Теперь это такая редкость. Все знакомые будут удивляться:
– Отчего это над Кишмиш – сияние?
– Как, разве вы не знаете? Да ведь она уже давно святая.
– Ах! Ах! Быть не может.
– Да вот, смотрите сами.
А Кишмиш сидит и кротко улыбается и ест чёрный хлеб с солью.

Гостям завидно. У них нет святых детей.
– А может быть, она притворяется?
ЭкзаменНа подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься.
Открыла книгу, развернула карту и - сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков - ровно ничего.
А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась.
Индийское море славилось тайфуном, Вязьма - пряниками, Пампасы - лесами, Льяносы - степями, Венеция - каналами, Китай - уважением к предкам.
Все славилось!
Хорошая славушка дома сидит, а худая по свету бежит - и даже Пинские болота славились лихорадками.
Подзубрить названия Маничка еще, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.
Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!
И написала на полях карты: "Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай!"
Три раза.
Потом загадала: напишу двенадцать раз "Господи, дай", тогда выдержу экзамен.
Написала двенадцать раз, но, уже дописывая последнее слово, сама себя уличила:
Ага! Рада, что до конца написала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать.
Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала:
Воображаешь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше…
Перо трещит и кляксит.
Маничка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят, ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы.
В три часа ночи, исписав две тетради и клякспапир, она уснула над столом.
Тупая и сонная, она вошла в класс.
Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением.
У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса! - говорила первая ученица, закатывая глаза.
На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз.
Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее.
Маня Куксина! - закричали они. - Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует: лодочкой - это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками…
Но Маничка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо:
Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.
Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром.
Госпожа Куксина! Пожалуйте сюда.
Маничка взяла билет и прочла. "Климат Германии. Природа Америки. Города Северной Америки"…
Пожалуйста, госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?
Маничка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: "За что мучаешь животных?" - и, задыхаясь, пролепетала:
Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия, чем южнее, тем севернее…
Учитель приподнял бровь и внимательно посмотрел на Маничкин рот.
Подумал и прибавил:
Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?
Маничка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила:
Америка славится пампасами.
Учитель молчал, и Маничка, выждав минуту, прибавила чуть слышно:
А пампасы льяносами.
Учитель вздохнул шумно, точно проснулся, и сказал с чувством:
Садитесь, госпожа Куксина.
Следующий экзамен был по истории.
Классная дама предупредила строго:
Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!
Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку.
Зато на другой день - последний перед экзаменами - пролежала на диване, читая "Вторую жену" Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.
Вечером села за Иловайского и робко написала десять раз подряд: "Господи, дай…"
Усмехнулась горько и сказала:
Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтораста, другое дело было бы!
В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Маничка говорила сама с собой на два тона. Один тон стонал:
Не могу больше! Ух, не могу!
Другой ехидничал:
Ага! Не можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать "Господи, дай", а экзамен выдерживать - так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч раз! Нечего! Нечего!
Испуганная тетка прогнала Маничку спать.
Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься - ничего завтра ответить не сообразишь.
В классе старая картина.
Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель.
Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: "Господи, дай".
Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!
Госпожа Куксина Мария!
Нет, не успела!
Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.
Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?
Что-то забрезжило в усталой Маничкиной голове:
Жизнь Анны Иоанновны была чревата… Анна Иоанновны чревата… Войны Анны Иоанновны были чреваты…
Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:
Последствия у Анны Иоанновны были чреватые…
И замолчала.
Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу.
Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: "За что мучаешь животных?"
Не расскажите ли теперь, госпожа Куксина, - вкрадчиво спросил учитель, - почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?
Маничка чувствовала, что это последний вопрос, влекущий огромные, самые "чреватые последствия". Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно.
Ну-с? - торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ. - Почему же ее прозвали Орлеанской?
Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:
Потому что была девица.
Арабские сказки
Осень - время грибное.
Весна - зубное.
Осенью ходят в лес за грибами.
Весною - к дантисту за зубами.
Почему это так - не знаю, но это верно.
То есть не знаю о зубах, о грибах-то знаю. Но почему каждую весну вы встречаете подвязанные щеки у лиц, совершенно к этому виду не подходящих: у извозчиков, у офицеров, у кафешантанных певиц, у трамвайных кондукторов, у борцов-атлетов, у беговых лошадей, у теноров и у грудных младенцев?
Не потому ли, что, как метко выразился поэт, "выставляется первая рама" и отовсюду дует?
Во всяком случае, это не такой пустяк, как кажется, и недавно я убедилась, какое сильное впечатление оставляет в человеке это зубное время и как остро переживается само воспоминание о нем.
Зашла я как-то к добрым старым знакомым на огонек. Застала всю семью за столом, очевидно, только что позавтракали. (Употребила здесь выражение "огонек", потому что давно поняла, что это значит - просто, без приглашения, "на огонек" можно зайти и в десять часов утра, и ночью, когда все лампы погашены.)
Все были в сборе. Мать, замужняя дочь, сын с женой, дочь-девица, влюбленный студент, внучкина бонна, гимназист и дачный знакомый.
Никогда не видала я это спокойное буржуазное семейство в таком странном состоянии. Глаза у всех горели в каком-то болезненном возбуждении, лица пошли пятнами.
Я сразу поняла, что тут что-то случилось. Иначе почему все были в сборе, почему сын с женой, обыкновенно приезжавшие только на минутку, сидят и волнуются.
Верно, какой-нибудь семейный скандал, и я не стала расспрашивать.
Меня усадили, наскоро плеснули чаю, и все глаза устремились на хозяйского сына.
Ну-с, я продолжаю, - сказал он.
Из-за двери выглянуло коричневое лицо с пушистой бородавкой: это старая нянька слушала тоже.
Ну, так вот, наложил он щипцы второй раз. Болища адская! Я реву, как белуга, ногами дрыгаю, а он тянет. Словом, все, как следует. Наконец, понимаете, вырвал…
После тебя я расскажу, - вдруг перебивает барышня.
И я хотел бы… Несколько слов, - говорит влюбленный студент.
Подождите, нельзя же всем сразу, - останавливает мать.
Сын с достоинством выждал минуту и продолжал:
Вырвал, взглянул на зуб, расшаркался и говорит: "Pardon, это опять не тот!" И лезет снова в рот за третьим зубом! Нет, вы подумайте! Я говорю: "Милостивый государь! Если вы"…
Господи помилуй! - охает нянька за дверью. - Им только дай волю…
А мне дантист говорит: "Чего вы боитесь? - сорвался вдруг дачный знакомый. - Есть чего бояться? Я как раз перед вами удалил одному пациенту все сорок восемь зубов!" Но я не растерялся и говорю: "Извините, почему же так много? Это, верно, был не пациент, а корова!" Ха-ха!
И у коров не бывает, - сунулся гимназист. - Корова млекопитающая. Теперь я расскажу. В нашем классе…
Шш! Шш! - зашипели кругом. - Не перебивай. Твоя очередь потом.
Он обиделся, - продолжал рассказчик, - а я теперь так думаю, что он удалил пациенту десять зубов, а пациент ему самому удалил остальные!.. Ха-ха!
Теперь я! - закричал гимназист. - Почему же я непременно позже всех?
Это прямо бандит зубного дела! - торжествовал дачный знакомый, довольный своим рассказом.
А я в прошлом году спросила у дантиста, долго ли его пломба продержится, - заволновалась барышня, - а он говорит: "Лет пять, да нам ведь и не нужно, чтобы зубы нас переживали". Я говорю: "Неужели же я через пять лет умру?" Удивилась ужасно. А он надулся: "Этот вопрос не имеет прямого отношения к моей специальности".
Им только волю дай! - раззадоривала нянька за дверью.
Входит горничная, собирает посуду, но уйти не может. Останавливается как завороженная с подносом в руках. Краснеет и бледнеет. Видно, что и ей много есть чего порассказать, да не смеет.
Один мой приятель вырвал себе зуб. Ужасно было больно! - рассказал влюбленный студент.
Нашли, что рассказывать! - так и подпрыгнул гимназист. - Очень, подумаешь, интересно! Теперь я! У нас в кла…
Мой брат хотел рвать зуб, - начала бонна. - Ему советуют, что напротив, по лестнице, живет дантист. Он пошел, позвонил. Господин дантист сам ему двери открыл. Он видит, что господин очень симпатичный, так что даже не страшно зубы рвать. Говорит господину: "Пожалуйста, прошу вас, вырвите мне зуб". Тот говорит: "Что ж, я бы с удовольствием, да только мне нечем. А очень болит?" Брат говорит: "Очень болит; рвите прямо щипцами". - "Ну, разве что щипцами". Пошел, поискал, принес какие-то щипцы, большие. Брат рот открыл, а щипцы не влезают. Брат и рассердился: "Какой же вы, - говорит, - дантист, когда у вас даже инструментов нет?" А тот так удивился. "Да я, - говорит, - вовсе и не дантист! Я - инженер". - "Так как же вы лезете зуб рвать, если вы инженер?" - "Да я, - говорит, - и не лезу. Вы сами ко мне пришли. Я думал - вы знаете, что я инженер, и просто по-человечески просите помощи. А я добрый, ну и…"
А мне фершал рвал, - вдруг вдохновенно воскликнула нянька. - Этакий был подлец! Ухватил щипцом да в одну минуту и вырвал. Я и дыхнуть не успела. "Подавай, - говорит, - старуха, полтинник". Один раз повернул - и полтинник. "Ловко, - говорю. - Я и дыхнуть не успела!" А он мне в ответ: "Что ж вы, - говорит, - хотите, чтоб я за ваш полтинник четыре часа вас по полу за зуб волочил? Жадны вы, - говорит, - все, и довольно стыдно!"
Ей-богу, правда! - вдруг взвизгнула горничная, нашедшая, что переход от няньки к ней не слишком для господ оскорбителен. - Ей-богу, все это - сущая правда. Живодеры они! Брат мой пошел зуб рвать, а дохтур ему говорит: "У тебя на этом зубе четыре корня, все переплелись и к глазу приросли. За этот зуб я меньше трех рублей взять не могу". А где нам три рубля платить? Мы люди бедные! Вот брат подумал да и говорит: "Денег таких у меня при себе нету, а вытяни ты мне этого зуба сегодня на полтора рубля. Через месяц расчет от хозяина получу, тогда до конца дотянешь". Так ведь нет! Не согласился. Все ему сразу подавай!
Скандал! - вдруг спохватился, взглянув на часы, дачный знакомый. - Три часа! Я на службу опоздал!
Три? Боже мой, а нам в Царское! - вскочили сын с женой.
Ах! Я Бебичку не накормила! - засуетилась дочка.
И все разошлись, разгоряченные, приятно усталые.
Но я шла домой очень недовольная. Дело в том, что мне самой очень хотелось рассказать одну зубную историйку. Да мне и не предложили.
"Сидят, - думаю, - своим тесным, сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, все равно, но все-таки я - гостья. Неделикатно с их стороны".
Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать…
Дело было в глухом провинциальном городишке, где о дантистах и помину не было. У меня болел зуб, и направили меня к частному врачу, который, по слухам, кое-что в зубах понимал.
Пришла. Врач был унылый, вислоухий и такой худой, что видно его было только в профиль.
Зуб? Это ужасно! Ну, покажите!
Я показала.
Неужели болит? Как странно! Такой прекрасный зуб! Так, значит, болит? Ну, это ужасно! Такой зуб! Прямо удивительный!
Он деловым шагом подошел к столу, разыскал какую-то длинную булавку - верно, от жениной шляпки.
Откройте ротик!
Он быстро нагнулся и ткнул меня булавкой в язык. Затем тщательно вытер булавку и осмотрел ее, как ценный инструмент, который может еще не раз пригодиться, так чтобы не попортился.
Извините, мадам, это все, что я могу для вас сделать.
Я молча смотрела на него и сама чувствовала, какие у меня стали круглые глаза. Он уныло повел бровями.
Я, извините, не специалист! Делаю, что могу!..
Вот я и рассказала!
Мой первый Толстой
Мне девять лет.
Я читаю "Детство" и "Отрочество" Толстого. Читаю и перечитываю.
В этой книге все для меня родное.
Володя, Николенька, Любочка - все они живут вместе со мною, все они так похожи на меня, на моих сестер и братьев. И дом их в Москве у бабушки - это наш московский дом, и когда я читаю о гостиной, диванной или классной комнате, мне и воображать ничего не надо - это все наши комнаты.
Наталья Саввишна - я ее тоже хорошо знаю - это наша старуха Авдотья Матвеевна, бывшая бабушкина крепостная. У нее тоже сундук с наклеенными на крышке картинками. Только она не такая добрая, как Наталья Саввишна. Она ворчунья. Про нее старший брат даже декламировал: "И ничего во всей природе благословить он не хотел".
Но все-таки сходство так велико, что, читая строки о Наталье Саввишне, я все время ясно вижу фигуру Авдотьи Матвеевны.
Все свои, все родные.
И даже бабушка, смотрящая вопросительно строгими глазами из-под рюша своего чепца, и флакон с одеколоном на столике у ее кресла - это все такое же, все родное.
Чужой только гувернер St-Jerome, и я ненавижу его вместе с Николенькой. Да как ненавижу! Дольше и сильнее, кажется, чем он сам, потому что он в конце концов помирился и простил, а я так и продолжала всю жизнь. "Детство" и "Отрочество" вошли в мое детство и отрочество и слились с ним органически, точно я не читала, а просто прожила их.
Но в историю моей души, в первый расцвет ее красной стрелой вонзилось другое произведение Толстого - "Война и мир".
Мне тринадцать лет.
Каждый вечер в ущерб заданным урокам я читаю и перечитываю все одну и ту же книгу - "Война и мир".
Я влюблена в князя Андрея Болконского. Я ненавижу Наташу, во-первых, оттого, что ревную, во-вторых, оттого, что она ему изменила.
Знаешь, - говорю я сестре, - Толстой, по-моему, неправильно про нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама - коса у нее была "негустая и недлинная", губы распухшие. Нет, по-моему, она совсем не могла нравиться. А жениться он на ней собрался просто из жалости.
Потом еще мне не нравилось, зачем князь Андрей визжал, когда сердился. Я считала, что Толстой это тоже неправильно написал. Я знала наверное, что князь не визжал.
Каждый вечер я читала "Войну и мир".
Мучительны были те часы, когда я подходила к смерти князя Андрея.
Мне кажется, что я всегда немножко надеялась на чудо. Должно быть, надеялась, потому что каждый раз то же отчаяние охватывало меня, когда он умирал.
Ночью, лежа в постели, я спасала его. Я заставляла его броситься на землю вместе с другими, когда разрывалась граната. Отчего ни один солдат не мог догадаться толкнуть его? Я бы догадалась, я бы толкнула.
Потом посылала к нему всех лучших современных врачей и хирургов.
Каждую неделю читала я, как он умирает, и надеялась, и верила чуду, что, может быть, на этот раз он не умрет.
Нет. Умер! Умер!
Живой человек один раз умирает, а этот вечно, вечно.
И стонало сердце мое, и не могла я готовить уроков. А утром… Сами знаете, что бывает утром с человеком, который не приготовил урока!
И вот наконец я додумалась. Решила идти к Толстому, просить, чтобы он спас князя Андрея. Пусть даже женит его на Наташе, даже на это иду, даже на это! - только бы не умирал!
Посоветовалась с сестрой. Та сказала, что к писателю нужно идти непременно с его карточкой и просить подписать, иначе он и разговаривать не станет, да и вообще с несовершеннолетними они не говорят.
Было очень жутко.
Исподволь узнавала, где Толстой живет. Говорили разное - то, что в Хамовниках, то, что будто уехал из Москвы, то, что на днях уезжает.
Купила портрет. Стала обдумывать, что скажу. Боялась - не заплакать бы. От домашних свое намерение скрывала - осмеют.
Наконец решилась. Приехали какие-то родственники, в доме поднялась суетня - время удобное. Я сказала старой няньке, чтобы она проводила меня "к подруге за уроками", и пошла.
Толстой был дома. Те несколько минут, которые пришлось прождать в передней, были слишком коротки, чтобы я успела удрать, да и перед нянькой было неловко.
Помню, мимо меня прошла полная барышня, что-то напевая. Это меня окончательно смутило. Идет так просто, да еще напевает и не боится. Я думала, что в доме Толстого все ходят на цыпочках и говорят шепотом.
Наконец - он. Он был меньше ростом, чем я ждала. Посмотрел на няньку, на меня. Я протянула карточку и, выговаривая от страха "л" вместо "р", пролепетала:
Вот, плосили фотоглафию подписать.
Он сейчас же взял ее у меня из рук и ушел в другую комнату.
Тут я поняла, что ни о чем просить не смогу, ничего рассказать не посмею и что так осрамилась, погибла навеки в его глазах, со своим "плосили" и "фотоглафией", что дал бы только Бог убраться подобру-поздорову.
Он вернулся, отдал карточку. Я сделала реверанс.
А вам, старушка, что? - спросил он у няньки.
Ничего, я с барышней.
Вот и все.
Вспоминала в постели "плосили" и "фотоглафию" и поплакала в подушку.
В классе у меня была соперница, Юленька Аршева. Она тоже была влюблена в князя Андрея, но так бурно, что об этом знал весь класс. Она тоже ругала Наташу Ростову и тоже не верила, чтобы князь визжал.
Я свое чувство тщательно скрывала и, когда Аршева начинала буйствовать, старалась держаться подальше и не слушать, чтобы не выдать себя.
И вот раз за уроком словесности, разбирая какие-то литературные типы, учитель упомянул о князе Болконском. Весь класс, как один человек, повернулся к Аршевой. Она сидела красная, напряженно улыбающаяся, и уши у нее так налились кровью, что даже раздулись.
Их имена были связаны, их роман отмечен насмешкой, любопытством, осуждением, интересом - всем тем отношением, которым всегда реагирует общество на каждый роман.
А я, одинокая, с моим тайным "незаконным" чувством, одна не улыбалась, не приветствовала и даже не смела смотреть на Аршеву.
Прочла с тоской и страданием, но не возроптала. Опустила голову покорно, поцеловала книгу и закрыла ее.
Была жизнь, изжилась и кончилась.
..................................................
Copyright: Надежда Тэффи
Своими руками