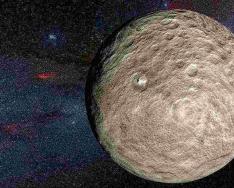Орнатская Т. И. Достоевский и Гончаров // Гончаров И. А.: Материалы юбилейной гончаровской конференции 1987 года / Ред.: Н. Б. Шарыгина. - Ульяновск: Симбирская книга, 1992 . - С. 105-114.
Т. И. Орнатская
ДОСТОЕВСКИЙ И ГОНЧАРОВ
Достоевский и Гончаров... Имя Достоевского названо первым не случайно. Дело в том, что по роду своей художнической деятельности Гончаров был почти исключительно романистом. Достоевский же сочетал в одном лице и романиста, и публициста, и критика. Поэтому естественно, что и в опубликованных сочинениях, и в материалах литературного архива этого писателя имя его старшего товарища по перу фигурирует довольно часто. Что же касается Гончарова, то он, по натуре человек глубоко скрытный, редко поверял свои впечатления и мнения бумаге и письмам, мало высказывался на публике, в своих редких литературных статьях почти не касался творений живущих с ним рядом собратьев по перу. Поэтому за исключением одного-двух высказываний о Достоевском да нескольких писем к писателю, вызванных сугубо деловыми поводами (о них будет речь ниже), у нас почти нет прямых источников, говорящих об отношении Гончарова к Достоевскому. И тем не менее, тот материал, который можно собрать, свидетельствует, что между двумя корифеями русской литературы существовали многообразнейшие и интереснейшие контакты самого разного рода: и личные, и творческие, и общественные (общественно-литературные и общественно-культурные). Здесь были и изначальное взаимное признание, и изначальное же соперничество (творческое), и завязывавшиеся начатки дружбы, и вспыхивавшее подчас раздражение.
Всему этому имелись свои глубоко коренившиеся причины, разобраться в которых и поможет обращение к истории взаимоотношений писателей.
Начались эти отношения с приезда будущих писателей в Петербург. Гончаров приехал, сюда из Москвы, где он учился, в мае 1835 г. Достоевский, в то время ученик одного из московских пансионов, на пути в северную столицу. Его привозят сюда в мае 1837 г. Сразу по приезде в Петербург Гончаров входит в семью Майковых, становится учителем будущего поэта Аполлона Майкова и будущего блестящего критика Валериана Майкова. Он преподает им историю русской литературы, риторику, поэтику («пиитику») и русский язык. Становится он и постоянным посетителем литературного салона Майковых и здесь же печатает в семейном рукописном журнале свои первые сочинения. Здесь в начале 1845 г. он читает первую часть «Обыкновенной истории». В начале 1846 г. Гончаров через Майковых же начинает уже посещать кружок Белинского, где к лету 1845 г. уже прославился своими «Бедными людьми» другой посетитель кружка - Достоевский.
Так получилось, что, начав писать гораздо раньше Достоевского, его старший современник Гончаров с некоторым опозданием стал известен как писатель в том же самом кругу литераторов. Причина такого опоздания была простой: друг Гончарова Михаил Александрович Языков, получивший рукопись «Обыкновенной истории» для передачи Белинскому, продержал ее у себя чуть ли не год 1 . Таким образом, дебют Достоевского состоялся значительно раньше, чем дебют Гончарова.
А это было уже начало соперничества (во всяком случае, в сознании Достоевского). Не случайно в письме к М. М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г. он писал: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и надеюсь, что навсегда...» 2 . Спокойнее констатировал этот факт Гончаров, в статье 1874 г. «Заметки о личности Белинского» писавший: «Он как Дон Жуан к своим красавицам относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя…, он сейчас же легко перешел к Достоевскому, потом пришел я - он занялся мною...» 3 .
В дальнейшем разрыв между появлением произведений еще более увеличился: «Петербургский сборник» с «Бедными людьми» вышел в свет 15 января 1846 г., а «Обыкновенная история» появилась в мартовском и апрельском номерах «Современника» за 1847 год.
С 1846-1847 гг. имена писателей начинают соседствовать: обоих приглашают в затеянный Белинским сборник «Левиафан» (не состоявшийся): они вместе сотрудничают в «Иллюстрированном альманахе». С этого же времени и в критике их имена называются рядом. Так, в 1849 г. в ряд «лучших произведений 1848 года» ставились «Слабое сердце» Достоевского и «Иван Савич Поджабрин» Гончарова 4 .
Правда, чаще всего, называя писателей рядом, критики ставили одного в пример другому. Обычно Гончарова - в пример Достоевскому. Так, в рецензии на «Униженных и оскорбленных» Г. А. Кушелев-Безбородко писал о «неподражаемом искусстве» Достоевского рассказывать, но тут же прибавлял, что «фразы его не так копотно и тщательно выглажены, как у Гончарова...» 5 .
28 марта 1849 г. из печати вышел «Литературный сборник с иллюстрациями», изданный журналом «Современник». Здесь было помещено новое сочинение Гончарова под названием «Сон Обломова. Эпизод из неоконченного романа». Мы не знаем точно, когда Достоевский прочел «Сон Обломова» - до ареста или значительно позднее. Но, зная его интерес к текущей литературе и журналистике, можно предположить, что он был одним из первых читателей нового творения Гончарова. Ведь не случайно, отвечая в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. на утверждение одного из критиков о том, что литература 1840-х годов была «бедна внутренним содержанием», писатель с искренним возмущением восклицал: «Эта та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя... Затем вывела Тургенева с его «Записками охотника»... затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах «Обломова» и напечатавшего тогда же из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия!» 6 .
В конце апреля 1849 г. первый период творчества Достоевского закончился. Последовали арест, каторга и поселение. Прервались надолго литературные и общественные контакты писателя. Одним из первых после брата Михаила другом писателя был барон Врангель, который в 1856 г. и напомнил ссыльному писателю о Гончарове, сообщив всего-навсего, что перед морским кругосветным путешествием он (Врангель) «получил поручения своего предшественника» (Гончаров работал в то время над книгой «Фрегат «Паллада»). В ответ со стороны Достоевского последовал труднообъяснимый раздраженный выпад против Гончарова. «Так Вы познакомились с Гончаровым? - восклицал Достоевский. - Как он Вам понравился? Джентльмен из «Соединенного общества», где он членом, с душою чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог будто на смех одарил блестящим талантом» 7 .
Возможно, досада Достоевского объяснялась тем, что Гончаров в это время активно печатал на страницах важнейших русских журналов очерки своего путешествия; возможно, доходили до Достоевского сведения о светской жизни Гончарова в это время - отсюда упоминание о несуществующем «Соединенном обществе». Припомнился ли ему внешний вид Гончарова, многих вводивший в заблуждение? Вспомним хотя бы портрет писателя, оставленный только что (во второй половине марта 1856 г.) познакомившимся с ним молодым ученым А. Н. Пыпиным: «...с брюшком, несмотря на отдаленное путешествие, с неполной шевелюрой, малоразговорчивый в обществе, вероятно, для него недостаточно избранном, с видимой манерой избалованности и самодовольного каприза. Он не производил привлекающего впечатления и скорее напоминал дядюшку из «Обыкновенной истории» 8 . Возможно, что это был и отклик на поступление Гончарова в цензоры - в любом случае это был отзыв столь же несправедливый, сколь и резкий. Свое чиновничество Гончаров переносил чрезвычайно тяжело: для него «служба была вечной язвой, разъедавшей его существование» 9 . Но никаких личных средств у писателя не было, писал он настолько медленно, что прожить на литературный заработок не смог бы никогда. Что же касается до его равнодушного вида («...без идей и с глазами вареной рыбы...»), этот вид многих вводил в заблуждение. Дело в том, что Гончаров был человеком чрезвычайно ранимым и поэтому скрытным: маска, надетая им на себя раз и навсегда, многих обманывала. Но те, кто знал его глубже, кого он любил и кому доверял - знали, что под этой маской скрывается.
Так, на склоне лет Гончаров подружился с молодым юристом А. Ф. Кони, который оставил настолько верную характеристику внутренней жизни писателя, как если бы он прожил с ним бок о бок долгие предшествовавшие годы. В 1880 г. Кони писал о Гончарове актрисе М. Г. Савиной: «Есть тяжкие физические страдания, когда помочь нельзя, а можно лишь на время дать забыть боль. То же и в области душевной. Годы уединения, вдумчивости, беспощадного анализа себя и других и притом с точки зрения обязательных идеалов и их реального невыполнения... хмель общих восторгов и тупая боль равнодушного забвения толпою через несколько лет... могут сложиться так, что тихое страдание станет неразрывным с самою жизнью, - что явится известная ревность к своему горю и тоске, которая будет щетиниться при всяком прикосновении к этому уже даже и любящей и нежной руки...» 10 .
Но Достоевский знает Гончарова только внешне, и как читатель. И в данный период этот читатель на удивление несправедлив к писателю. Каждое известие о Гончарове продолжает раздражать его. В ответ на слова брата о печатании «Обломова» Достоевский взрывается, называя роман «отвратительным» 11 . Позднее отношение его к этому роману изменится, и он будет сравнивать одного из любимейших своих героев - князя Мышкина - именно с Обломовым, а в 1870 г. поставит роман по силе в один ряд с «Мертвыми душами» и «Войной и миром».
С возвращением Достоевского в Россию постепенно возобновляются его прежние литературные контакты. Он начинает печататься, и в 1859 г. цензором «Села Степанчикова» оказывается Гончаров. М. М. Достоевский, сообщая брату в Тверь об этом факте, передает с чужих слов, что Гончаров «выкинул одно только слово» и что он «роман хвалил с оговорками. Какими, не знаю» 12 .
В самом конце 1859 г. Достоевский возвратился в Петербург, и контакты его с Гончаровым принимают более разнообразные формы. Писатели встречаются изредка у общих знакомых (так, А. Н. Майков был близким другом обоих), а с 1860 г., когда оба писателя участвовали в знаменитой постановке гоголевского «Ревизора», поставленного Литературным фондом с благотворительной целью, началась целая серия их совместных (вплоть до 1880 г.) выступлений в литературных чтениях. Более частыми становятся и нечаянные личные встречи: одну из них, произошедшую в 1867 г. в Баден-Бадене, Достоевский во всех подробностях описал в письме к А. Н. Майкову 13 .
О другой встрече, на этот раз уже «с одним из любимейших мною наших писателей», Достоевский рассказывал в «Дневнике писателя» за июль-август 1877 г. Гончаров был там скрыт под одной начальной буквой, но узнать его было нетрудно - тем более ему самому. Этот эпизод не мог, казалось бы, пройти незамеченным Гончаровым, но мы ничего не знаем о его реакции. «Встречаемся мы с ним очень редко, - писал Достоевский, - в несколько месяцев раз, и всегда случайно, все как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою»... Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово» 14 .
Еще один такой разговор, произошедший в начале апреля 1876 г., отразился в одной из записных тетрадей Достоевского, где он отметил: «Недоконченные типы. Текущая жизнь, слово Гончарова» 15 . Этот разговор восходит к известному спору двух писателей о типическом в искусстве, сводившемуся к тому, что Достоевский, характернейшим признаком пера которого была «одержимость «тоской по текущему», изображал жизнь как беспрерывное движение, в ее беспорядке, даже хаосе; Гончаров же был убежден в возможности отражения действительности устоявшейся, принявшей четкие формы и очертания. Как справедливо отмечал современный исследователь Г. М. Фридлендер, «эстетическая программа, намеченная Гончаровым, лишь частично отвечала его собственной творческой практике романиста, не покрывая ее...» «Эстетические» советы Гончарова Достоевскому были «тесно связаны с его творческим опытом романиста», который достаточно претерпел от критиков за попытки изобразить в своих романах «типы еще не определившиеся, нарождающиеся и складывающиеся (жена старшего Адуева, Штольц, Вера, Марк Волохов)» 16 .
Этот спор был завершен в 1879 г. самим Гончаровым. В статье «Лучше поздно, чем никогда», выстроив ряд бесспорных, с его точки зрения, реалистов: Грибоедов - Пушкин - Островский - Тургенев - Толстой - писатель заметил: «Даже такие особые, не входящие в этот круг, своеобразные таланты, как Достоевский и Щедрин, не могли бы силою одного холодного анализа находить правды жизни - один в глубокой, никому, кроме него, недостигаемой пучине людских зол, другой в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий. Один содрогается и стонет сам - содрогается от ужаса и боли его читатель... Под этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого кипят свои невидимые слезы, прячется своя любовь, которая, вместе с другими силами творчества, лежит в основе талантов всех этих звезд первой величины.
Не было бы ничего этого у них, если б они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Все эти вместе взятые силы только и ведут к истинной правде в искусстве!
Да, много хочет и далеко зашел новейший реализм! Там, куда он метит, одного ума мало: в искусстве ум должен быть в союзе с фантазией» 17 .
В этом признании необходимости элементов «фантастического» в реализме Гончаров полностью признает правоту Достоевского в их давнем споре. Поэтому причисление им Достоевского к «звездам первой величины» выглядит совершенно закономерным.
В свою очередь Достоевский в письме к Н. Л. Озмидову от 18 августа 1880 г., отвечая на просьбу посоветовать, что необходимо читать юной дочери корреспондента, называет Гончарова рядом с Шиллером, Вальтером Скоттом, Пушкиным, Гоголем и Тургеневым 18
До сих пор речь шла о взаимных отношениях писателей, их встречах, контактах, отзывах друг о друге. Их творчество, казалось бы, существовало параллельно, и в качестве исключения можно было бы привести один-два случая, когда Достоевский «намечал» Гончарова в персонажи, или, вернее, в прототипы своих персонажей. Я имею в виду прежде всего эпизод из подготовительных материалов к роману «Бесы», где Гончарову отводилось место в литературном салоне княгини - будущей Варвары Петровны Ставрогиной. Она «...завела сношения со многими писателями, Гончаров, в Петербур[ге] хотела было собрать нигилис[тов]. Великий писатель, один Великий критик, но уж слишком пьянствов[ал]» 19 . Как видим, Гончаров должен был попасть в роман вместе с Тургеневым и Аполлоном Григорьевым. В 1870 г. Достоевский задумывал роман о писателе, который в старости «впал в отупение способностей, а затем в нищету... Как подают ему Т[ургенев], Гончар[ов], Плещеев, Аксаков...» 20 . Этот замысел остался невоплощенным.
Но оказывается, что были и творческие переклички, и даже творческое влияние, а точнее отталкивание, были и другие формы внутрилитературных отношений. Просто на эти факты еще не обращено внимание исследователей (за небольшим исключением). Правда, речь будет идти лишь о влиянии Гончарова на Достоевского. И это опять-таки не случайно. Во-первых, нельзя забывать одного чрезвычайно серьезного факта: Гончаров и Достоевский только в начале их творческого пути были современниками. Потом Гончаров стал старшим товарищем Достоевского по перу. Поясню свою мысль. Дело в том, что хотя «Обломов» и «Обрыв» появились соответственно в 1859 и 1869 гг., задуманы и в основном формулированы оба романа были в конце 40-х - первой половине 50-х гг. В 60-е гг. в роман «Художник» была привнесена линия Марка Волохова и связанный с ним сюжет падения героини. Имя же Достоевского до 1859 г. было практически вычеркнуто из литературного обихода.
Нужно прибавить также, что по характеру творческого склада Гончаров вообще мало поддавался каким-либо влияниям. Иное дело Достоевский. Для него материалом становилось все в окружающей жизни. Именно поэтому намерение найти в творчестве Гончарова какое-либо влияние Достоевского заранее обречено на неуспех. Разве что можно задаться вопросом, не отразился ли один чрезвычайно яркий эпизод из статьи Достоевского «Г-н Бов и вопрос об искусстве» в черновиках романа «Обрыв». Речь идет о сравнении красоты Веры с красотой статуи Венеры Милосской из одноименного стихотворения А. А. Фета 21 .
О влиянии на Достоевского романа «Обломов» уже упоминалось выше; но посмотрим пристальнее на следующие строки романа: «...изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! - почти шипел Обломов. - ...человека-то забывают или не умеют изобразить» 22 . Не из этих ли строк родилось знаменитое изречение Достоевского: «найти в человеке человека»?
Не раз повторялись слова Достоевского об огромном впечатлении, произведенном на него чтением главы «Сон Обломова». Но до сих пор не обращалось внимание на то, каким образом идея этого творения Гончарова отразилась в снах Ставрогина, Версилова и, самое главное, в «Сне смешного человека». Между тем, сам тон произведения Гончарова, его стилистика явно ощущается в «Сне смешного человека». Подтверждением этому - хотя бы следующий небольшой фрагмент из иронической характеристики обломовцев: «Они никогда не смущали себя никакими туманными или нравственными вопросами: оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго, мужчины в сорок лет походили на юношей; старики не боролись с трудной, мучительной смертью а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох» 23 .
Таким образом, это гончаровское творение долгие годы жило в творческом сознании Достоевского и воплощалось в другие «сны» - на страницах его произведений.
И, наконец, еще один эпизод из истории взаимоотношений двух писателей. В 1862-1863 гг. в журнале «Время» печатались путевые очерки Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях». В академическом комментарии к этому произведению отмечено, что их автор продолжал «сложившуюся уже в русской литературе традицию». Здесь названы и Карамзин, и Боткин, и Герцен, и Ап. Григорьев, и даже Е. Тур и П. Новицкий. Не назван только Гончаров с его книгой «Фрегат «Паллада», вышедшей отдельным изданием в 1858 г.
Между тем, скрытая полемичность по отношению к книге Гончарова заметна уже во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе», напечатанном Достоевским в 1861 г. Вот начальные фразы «Введения»: «Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем... Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден...» 24 .
В этих строках содержится прямая полемика с главой «Русские в Японии» из «Фрегата «Паллада»: «Вот достигается цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертый ларец, с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить, и золотом, и оружием, и хитрой политикой, на знакомство... Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства... Странная, занимательная пока своею неизвестностью земля...» 25 .
Но эта перекличка - лишь один маленький штрих, лишь сигнал искушенному читателю. Зато в «Зимних заметках...» Достоевский нарочито рассыпает такие словечки-сигналы по тексту, вступая тем самым в открытую полемику с произведением Гончарова. Он сохраняет и даже нарочито повторяет композицию книги своего непосредственного предшественника. «Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтоб я описал вам поскорее мои заграничные впечатления, не подозревая, что вашей просьбой вы ставите меня просто в тупик. Что я вам напишу? что расскажу нового, еще неизвестного, нерассказанного?» 26 . «Экспедиция в Японию - не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь, - делится своими сомнениями Гончаров. - Трудно теперь съездить в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать?» 27 .
«А! - восклицаю я, - так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу!» 28 «Из этого, т. е. из «мимолетных впечатлений» и «наблюдений», конечно, не могло выйти ни какого-нибудь специального ученого труда (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия с строго-определенным содержанием. Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи - словом, очерки» 29 . «Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное до добродушия сказание о том, как мы провели вчерашний день» 30 .
Говоря об Англии, Достоевский упоминает красавиц-англичанок, «перед которыми останавливаешься в изумлении». «Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки» 31 , - пишет он. И при этом само собою приходит на память гончаровское описание нескольких типов английских красавиц: «Англичанки большей частью высоки ростом, стройны... Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразны: есть совершенные брюнетки, то есть с черными, как смоль, волосами и глазами, и в то же время, с необыкновенною белизной и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица - фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожею, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах» 32 .
Сравнение двух текстов можно продолжить более детально - например, проиллюстрировать текстом Гончарова коротенький пассаж Достоевского о миссионерах, которые «исходят всю землю, зайдут в глубь Африки, чтоб обратить одного дикого...» и т. д. и т. п., но остановимся на этом.
Целью данной статьи была первоначальная постановка вопроса о взаимоотношениях двух писателей. В результате выяснилось, что между ними существовали весьма своеобразные отношения, всецело обусловленные теми или иными принципами творческого плана; что при полном взаимопризнании и взаимоуважении Достоевский и Гончаров достигли к 1880 г. - к концу жизни Федора Михайловича - почти гармоничных отношений. Их современник, друг Достоевского Н. Н. Страхов, рассказывая жене Л. Н. Толстого о своем посещении салона вдовы А. К. Толстого, заметил: «..Там я нашел Гончарова и Достоевского, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга...» 33 . Страхов вряд ли написал бы так, если бы заметил между писателями хоть намек на их былые трения.
1 См. об этом: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 308.
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Л., 1972-1988, т. 28, с. 120.
3 Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., 1955, с. 50.
4 Отечественные записки, 1849, № 1, отд. V, с. 34.
5 Русское слово, 1861, № 9, с. 35-49.
6 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 22, с. 105.
7 Там же, т. 28, с. 244.
8 Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910, с. 103.
9 Энгельгардт Б. М. Путешествие вокруг света Ильи Обломова. - ИРЛИ, ф. 700 (неопубл.).
10 ИРЛИ, ф. 134, оп. 2, № 13.
11 Подробнее см.: Битюгова И. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в художественном восприятии Достоевского. - Достоевский. Материалы и исследования, вып. 2. Л., 1975, с. 191 - 198.
12 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 28.
13 Там же, т. 282, с. 208.
14 Там же, т. 25, с. 198.
15 Там же, т. 24, с. 163.
16 Фридлендер Г. М. Эстетика Достоевского. - В сб.: Достоевский - художник и мыслитель. М., 1972, с. 121-123.
17 Гончаров И. А. Собр. соч., т. 8, с. 108.
18 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 30, с. 212.
19 Там же, т. 11, с. 66.
20 Там же. т. 12, с. 5.
21 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 18, с. 97-98. Параллель со стихотворением А. А. Фета без указания на толкование Достоевским другого стихотворения Фета - «Диана» - проведена в статье: Гейро Л. С. Роман Гончарова «Обрыв» и русская поэзия его времени. - Русская литература, 1974, № 1, с. 69.
22 Гончаров И. А. Собр. соч., т. 4. М., 1953, с. 30.
23 Там же, с. 126.
24 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 18, с. 41.
25 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Л., 1986, с. 246.
26 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 5, с. 46.
27 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада», с. 12.
28 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 5, с. 49.
29 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада», с. 6.
30 Там же, с. 351.
31 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 5, с. 71.
32 Гончаров И. А. Фрегат «Паллада», с. 43. Не отсюда ли «лучистые глаза» княжны Болконской в «Войне и мире» Л. Н. Толстого?
33 Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870-1894. СПб., 1912, с. 252.
Заключу сказание об "Обломове" известием, которому, знаю, Вы дружески порадуетесь: доселе вышли три части (4-я выходит завтра) и встречены были, особенно 2-я часть, с неожиданным для меня благоволением. Успех если не больше, так равный успеху "Обыкн[овенной] истории". Особенно утешительные вести получаются из Москвы. Не знаю, что скажет печатная критика: я думаю, не много хорошего. Во-1-х, меня не любят за… характер, то есть что у меня есть какой-нибудь характер, не искательный, не подладливый; угрюмость мою, охлаждение от лет принимают за гордость и не прощают мне этого, не прощают резкости; притом я ценсор, лицо не популярное. Редакции, кроме "Отеч[ественных] зап[исок]", "Библ[иотеки] д[ля] чтения" да отчасти "Современника", меня не жалуют, московские в особенности. Тургенев, независимо от сильного таланта, мягок, готов сидеть со всяким, всюду идет и в салон Кушелева и к Плещееву, во всех редакциях - идол. Я не умею и не могу, потому, между прочим, что у меня вся жизнь пронизана каким-нибудь самостоятельным - может быть и уродливым, - но своим взглядом, идеею, воззрением, притом упорным, последовательным и верным себе воззрением. От этого я для всех почти, за исключением немногих друзей, "неприятный господин". Но пусть! Я, между прочим, имею кое-что общее с Вами в искреннем и горячем служении своему призванию и в этом служении не опираюсь ни на какие посторонние ему столбы. Пойдемте же по нашей дороге, не смущаясь ничем.
Старик и Старушка едут в Киссинген, Вы это конечно знаете; я тоже прошусь в Мариенбад, и если всё устроится по нашему желанию, то мы отправимся в одном мальпосте до Варшавы.
А отчего Вы не написали ничего об Анне Ивановне? где она и здорова ли? Поцелуйте у ней ручку. Что дети? А куда к Вам писать: ведь Вы теперь на волкане - и буквально и фигурально.
Вы спрашивали меня, что новый комитет? Не знаю, право. Мне предложена была честь принять в нем участие, в качестве управляющего канцелярией и, кажется, совещателя, но - гожусь ли я? Я поблагодарил и уклонился, указав им на Никитенко, который знает и любит литературу. Вследствие этого комитет, как я слышал, благосклонен к литературе и, кажется, затевает отличное дело - издавать газету, орган правительства, в которой оно будет действовать против печатных недоразумений (я не говорю злоупотреблений, как некоторые называют: при ценсуре их быть не может) также путем печати и литературы: дай Бог! Авось тогда уймутся те господа, которые, чуя за собой грешки и боясь огласки, кричат: разбой, пожар! и бегут жаловаться и пугают чуть не преставлением света, оттого что ругают взятки или робкий и почтительный голос осмелится указать недостатки какого-нибудь административного распоряжения.
О ценсуре что сказать: прибавлено два ценсора. Фрейганг - о чудо! говорят, выходит в отставку. Все литераторы наши разъехались: целую зиму был ряд обедов то у того, то у другого. Тургенев уехал с большим триумфом. Повесть его произвела огромный успех. Писемский тоже продолжает собирать дань; роман его разобран печатно, и везде хорошо. Стихов нет; Фет мало печатал. Островский написал прелестнейшую комедию "Воспитанница". Мне предлагали опять преподавать словесность, но, по совести, я не мог, при моих занятиях, взять на себя такой важный труд - и дело разошлось. Прощайте, милый друг, будьте здоровы, пишите и не забывайте стариннейшего из Ваших друзей
И. Гончарова.
Е. А. ЯЗЫКОВОЙ
Внимание Ваше, добрый друг Екатерина Александровна, трогает меня до глубины души: но в дружбе Вашей я был уверен всегда и потому позвольте принять приношение Ваше как знак внимания к "Обломову"; это - большая отрада для моего авторского самолюбия, и Вы выразили его и щедро прекрасной вазой, и грациозно - милым письмом.
Выражением же дружбы Вашей пусть послужит портрет: не заметив его сначала, я быстро обратился с вопросом к человеку: "а портрета нет?" - и в ту же минуту увидал его. На днях сбиралась к Вам Юния Дмитр[иевна], и я поручал ей взять его у Вас.
Я теперь теряю голову: кажется, не должно быть хлопот, а между тем много: то с деньгами, то с службой, с которой я еще не разделался. Но несмотря на то, я сегодня утром уговорился уже с Меньшиковым быть у Вас в субботу вечером, если только погода не изменит. Может быть даже, в случае очень хорошей погоды, я приеду и к 5 часам: только не ждите долго и не стесняйтесь, если бы Вы вздумали сами обедать не дома, и кроме каши не велите готовить ничего, потому что наверное сказать не могу. Если буду обедать, то Меньшиков придет в 8 часов один.
Во всяком случае, в субботу ли или после субботы, но я не уеду, не простясь и лично не поблагодарив за прелестный, прелестный подарок. Жалею, что Михайло Александров[ич] не застал меня.
Элликониде Александровне кланяюсь и, если не с собой принесу, то пришлю "Фрегат "Палладу"".
Целую Ваши ручки
И. Гончаров.
Л. Н. ТОЛСТОМУ
Давно я собирался, граф Лев Николаевич, сказать Вам душевное спасибо за ласковое слово об "Обломове", адресованное ко мне рикошетом через письмо Александра Васильевича. Но, поверите ли, едва выискал свободные полчаса, и то ночью, написать эти строки, чтобы вместе и проститься перед отъездом за границу. Слову Вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как Вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда. Ваше воззрение на искусство имеет в себе что-то новое, оригинальное, иногда даже пугающее своей смелостию; если не во всем можно согласиться с Вами, то нельзя не признать самостоятельной силы. Словом, угодить на Вас нелегко, и тем мне приятнее было приобрести в Вас доброжелателя новому моему труду. Еще бы приятнее мне было, если б Вы не рикошетом, а прямо сказали и о моих промахах, о том, что подействовало невыгодно. Особенно полезно бы было мне это теперь, когда я желал бы попробовать еще раз перо свое над одной давно задуманной штукой. И если время, расположение духа и разные обстоятельства позволят, я и попробую. Я желал бы указания не на случайные какие-нибудь промахи, ошибки, которые уже случились и, следовательно, неисправимы, а указания каких-нибудь постоянных дурных свойств, сторон, замашек, аллюр и т. п. моего авторства, - чтобы (если буду писать) остеречься от них. Ибо, как ни опытен автор (а я признаю за собой это одно качество, то есть некоторую опытность), а всё же ему одному не оглядеть и не осудить кругом и с полнотой самого себя. Но, может быть, такое домогательство с моей стороны превышает меру Вашего доброго ко мне расположения, и потому я позволяю себе только выразить это желание, а домогаться не решаюсь.
Еду я 22-го мая, то есть через неделю с небольшим, и сам вижу, как с каждым днем розовая перспектива поездки всё бледнеет. Война, затруднение с переводом денег, неизвестность, что будет, - всё это отравляет путешествие, но еду, потому что давно задумал ехать, а я, между прочим, бываю иногда упорен, чуть ли не как Тарас Скотинин, - что задумаю, то, кряхтя и охая, и несу, как тяжкий крест, хотя бывает иногда нужно только шевельнуть пальцем, чтоб сбросить его с себя. Притом оставаться здесь еще летом - наказание, которого никому не желаю испытать. Если это письмо застанет у Вас Александра Васильевича, поклонитесь ему.
Если бы Вы вздумали сказать мне слово в ответ, то я только до пятницы (22 мая) проживу здесь. Дня через три надеюсь, несмотря на все хлопоты, прочесть начало Вашего романа, о котором мне уже говорили с нескольких сторон. Но жаль, что не узнаю долго продолжения.
Прощайте, Лев Николаевич, желаю доброго здоровья и скорого по возможности свидания с Вами здесь. Искренно преданный
И. Гончаров.
Живу я на Моховой улице, в доме Устинова.
И. И. ЛЬХОВСКОМУ
Не хочется уехать за границу, не простясь с Вами, любезнейший друг Иван Иванович. Мы, то есть Старик со Старушкой, я и Катя, едем в почтовой карете 22-го мая, то есть через три дня, в Варшаву. Они в - Эмс, я в Мариенбад, а если не пустят туда по случаю войны и подозрительности австрийского правит[ельства] относительно России и славянских земель, - то в Виши (Южную Францию). В конце сентября мы должны возвратиться. Старушка стала пободрее от одной мысли ехать за границу и видеть новое. Но не знаю, как она вынесет путь до Варшавы, когда и я, проехав туда пятеро суток в карете, три ночи сряду кричал благим матом от судорог в ногах. Но довольно об этом: что Бог даст!
А вы что? Скоро ли назад? Дружинин на днях справлялся очень заботливо о Вас и говорит, что лишь только приедете, он отдаст Вам в заведование весь критический отдел в "Библ[иотеке] д[ля] чтения".
Перед этим я писал Вам еще письмо тоже в Николаевск, от марта или апреля, не помню. Евгения Петровна всё хворает поносом и желчью: это бы давно прошло, если б она не была в постоянном ужасе, что это у нее холера. Они с Ник[олаем] Апол[лоновичем] и с детьми наняли на 16 версте Петергофской дороги дачу, Кашкаровы там же. Аполлон, кажется, удрал с корвета под предлогом болезни, и, соединясь в Дрездене с Анной Ивановной, приедут сюда. Он говорит, что написал одну дрянную статью о Неаполе, а Григорович напечатал статью в "Морском сборнике", но, говорят, плохую. Я читал две первые страницы, и мне показалось бойко написано.
Гончаров Иван Александрович
Письма (1859)
Гончаров И.А.
Письма.1859
Я. П. ПОЛОНСКОМУ
Начало января 1859. Петербург
Напрасно Вы думаете, любезнейший Яков Петрович, что я уступлю А. И. Фрейгангу удовольствие подписать Аполлонову поэму: Вы не так поняли дело. Я еду к нему затем только, чтоб подписать поэму при нем, чтоб он не думал, что я "тихонько беру от Вас статьи и подписываю". Я в таком только случае уступил бы ему право подписать, когда бы он настоятельно этого потребовал: но он добиваться этого не станет: не всё ли ему равно? Не предупредить мне его неловко: он может подумать, что и Вы, и я хотели нарочно избегнуть его. Словом, я хочу соблюсти обычную вежливость и некоторую осторожность, чтоб не подать повода и т. д. и т. д. и т. д. Часа через два поэма будет в типографии и подписана мною без всякого изменения.
Извините, что так мерзко пишу: я еще в постели, не хочется встать. Но лишь встану - и прямо к Фрейгангу.
Кланяюсь Вам, а Елене Васильевне - вдвое ниже.
Ваш Гончаров.
Утешьте главного Вашего редактора: еще ни один журнал не вышел.
В. П. БОТКИНУ
Сейчас только получил я Ваше письмо, сладчайший Василий Петрович, и сейчас же посылаю Вам рекомендательное письмо к директору Кяхтинской т[амож]ни для Влад[имира] Петров[ича]. Я прилагаю и пакетик, чтобы Вы прежде прочитали, годится ли письмо; и если годится, то вложите в пакет, на котором есть и клей, чтоб закрыть его наглухо, без всякой печати. А если не годится, то напишите поскорей, что надо сказать в письме, и я пришлю другое (адрес мой в доме Устинова, а не Щербатова).
Видите, как мерзко пишу, не назовете "сладкопевцем", что делать: некогда! Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки и взамен дают геморрой. А Вы-таки не можете не читать "Обломова": что бы подождал до апреля! Тогда бы зорким оком обозрели всё разом и излили бы на меня - или яд, или мед - смотря по заслугам.
Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно. - Я всё непокоен, пока не кончится последняя часть в апреле, только тогда вздохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттискивают. Неожиданно выходит, вместо 3-х, четыре части, несмотря на убористый шрифт "От[ечественных] зап[исок]".
Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно, по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он всё по княгиням да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех домах, то печален. Нового ничего нет.
В ожидании скоро видеть Вас, прощайте.
Жму Вашу руку
И. Гончаров.
В письме к Мессу я немного распространился о Вас: это ничего, лучше поможет.
И. С. ТУРГЕНЕВУ
…A propos - о дипломатах и дипломатии. Садясь в вагон у Знаменья на станции и прощаясь со мной, Вы мне сказали: "Надеюсь, теперь Вы убедились (по поводу нашего разговора накануне), что Вы не правы", и потом прибавили Ваш обыкновенный refrain: "Спросите у N.N: когда я говорил ему о том-то и о том-то". Вы могли говорить об этом очень давно, и всё это ничего не значит. У меня и в бумагах есть коротенькая отметка о деде, отце и матери героя. Но говорить о четырех портретах предков (из письма) Вы не могли. Впрочем, всё это ничего не значит: я знаю, что внутренне Вы совершенно согласны со мной. С большой досадой пошел я домой. "За кого же он меня считает? - думал я, за ребенка, за женщину или за "юношу", как назвал меня вечером в тот день Анненков". Мне и хочется теперь сказать Вам: нет, я убежден в том, в чем сам убедился, что вижу и знаю, что меня удивляет, волнует и заставляет поздно раскаиваться, и мне свидетельства свидетелей не нужно. Наш спор был тонок, деликатен и подлежал только суду наших двух совестей, а не NN, не П.П. Ужели Вы, явясь на этот спор с блестящей свитой, могли бы быть покойны и довольны собой потому только, что NN или ПП сказали бы: "Вы не правы". Как это можно: Тургенев не прав! Кто смеет подумать - это ложь и т. д., а между тем Вы в самом деле были бы не правы? Я не понимаю этого. Если б весь мир назвал меня убийцей и лгуном, а я бы не был убийцей и лгуном, я бы не смутился; точно так же, если б весь мир сделал меня своим идолом "иисусиком христом", да если бы во мне завелся маленький червячок, - кончено дело: я бы пропал. Нет, если я накануне спорил осторожно и оставил арену, не дойдя до конца, не высказавшись весь, так это потому, что есть предметы слишком нежные, до которых трудно касаться, оттого, что у меня, у "жестокого человека", есть мягкость там, где у других ее не бывает… Мне было неловко, я конфузился, только не от своей неправоты… Правда Ваша после этого, что Ваши хитрости "сшиты на живую нитку", когда Вы мою мягкость и неловкость приняли за "убеждение в неправом споре". Нет, не поверил я Вам и в том, когда Вы так "натурально" уверяли меня, что будто литературное Ваше значение вовсе не занимает Вас, что Вы касаетесь его так, мимоходом, а что живет в Вас "старая мечта, старая любовь" и по ней тоскуете Вы, по неосуществлению ее. Простите, мне послышались в этих словах стихи:
И знает Бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет…
Дипломат, дипломат! Нет, давно и страстно стремились Вы - скажу к чести Вашей - к Вашему призванию и к Вашему значению: не сознаваться в этом было бы или постыдным равнодушием, или fatuitй. Скажу более: Вы смотрите еще выше и, конечно, подыметесь очень высоко, если пойдете своим путем, если окончательно уясните, определите сами себе свои свойства, силы и средства. Вы скользите по жизни поверхностно, это - правда; но по литературной стезе Вы скользите менее поверхностно, нежели по другому. Я, например, рою тяжелую борозду в жизни, потому что другие свойства заложены в мою натуру и в мое воспитание. Но оба мы любим искусство, оба - смею сказать - понимаем его, оба тщеславны, а Вы сверх того не чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей… которых я лишен по большей цельности характера, по другому воспитанию и еще… не знаю почему, по лени, вероятно, и по скромности мне во всем на роду написанной доли. У меня есть упорство, потому что я обречен труду давно, я моложе Вас, тронут был жизнию и оттого затрогиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а Вы хотите добывать призы, как на сourse au clocher. Если смею выразить Вам взгляд мой на Ваш талант искренно, то скажу, что Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму. Свое свободное, безгранично отведенное Вам пространство хотите Вы сами насильственно ограничить тесными рамками. Вам, как орлу, суждено нестись над горами, областями, городами, а Вы кружитесь над селом и хотите сосредоточиться над прудом, над невидимыми для Вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной драмы. Хотите спокойно и глубоко повествовать о лице, о чувстве, которых по быстроте полета не успели разглядеть, изучить и окунуться сами в его грусть и радость. В этом непонимании своих свойств лежит вся, по моему мнению, Ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько Вы ни пишите еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей "Илиады", Ваших "Записок охотника": там нет ошибок, там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А "Фауст", а "Дворянское гнездо", а "Ася" и т. д.? И там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное… зато создание - его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно, и в таланте. "Дворянское гнездо"… Про него я сам ничего не скажу, но вот мнение одного господина, на днях высказанное в одном обществе. Этот господин был под обаянием впечатления и, между прочим, сказал, что когда впечатление минует, в памяти остается мало; между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказывается история барыни (Варвары Павловны), потому что очевидно - автора занимает не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость взятого круга жизни, но что гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей - совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием, но ведь они могли бы быть и не в такой большой рамке, а в очерке, и действовали бы живее, не охлаждая промежутками… Сообщаю Вам эту рецензию учителя (он учитель) не потому, чтоб она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти подтверждает мой взгляд на Ваши произведения. Летучие, быстрые порывы, как известный лирический порыв Мицкевича, населяемые так же быстро мелькающими лицами, событиями отрывочными, недосказанными, недопетыми (как Лиза в "Гнезде") лицами, жалкими и скорбными звуками или радостными кликами, - вот где Ваша непобедимая и неподражаемая сила. А чуть эта же Лиза начала шевелиться, обертываться всеми сторонами, она и побледнела. Но Варвара Павловна - скажут - полный, оконченный образ. - Да, пожалуй, но какой внешний! У каких писателей не встречается он! Вы простите, если напомню роман Paul de Cock "Cocu", где такой же образ выведен, но еще трогательный; там он извлекает слезы. Вам, кажется, дано (по крайней мере так до сих пор было, а теперь, говорят, Вы вышли на новую дорогу) не оживлять фантазией действительную жизнь, а окрашивать фантазию действительною жизнию, по временам, местами, чтобы она была не слишком призрачна и прозрачна. Лира и лира - вот Ваш инструмент. Поэтому я было обрадовался, когда Вы сказали, что предметом задумываемого Вами произведения избираете восторженную девушку, но вспомнил, что Вы ведь дипломат: не хотите ли обойти или прикрыть этим эпитетом другой… (нет ли тут еще гнезда, продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром? Если же я ошибаюсь, если это не то, то мне придется поверить Вам в том, что Вы, по Вашим словам, "может быть невольно, а не сознательно впечатлительны", и я приму это как данное, не достававшее мне для решения одного важного вопроса насчет Вашего характера). Если же это действительно восторженная, то такой женщины ни описывать, ни драматизировать нельзя; ее надо спеть и сыграть теми звуками, какие только есть у Вас и ни у кого более. Я разумею восторженную, как fleuriste в "Andrй" у Ж. Занд. Но такие женщины чисты; они едва касаются земли, любят не мужчину, а идеал, призрак, а Ваша убегает за любовником в Венецию (отчего не в Одессу? там ближе от Болгарии), да еще есть другая сестра: "Та - так себе", - сказали Вы… Тут и всё, что Вы мне сказали.
Mark all (un)played …
Fetch error
Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on August 18, 2019 01:10 (7M ago)
What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher"s feed link below is valid and includes actual episode links. You can to request the feed be immediately fetched.
Manage series 1188791
By LibriVox .. Hit the Subscribe button to track updates in сайт, or paste the feed URL into other podcast apps.
Oblomov is the best known novel by Russian writer Ivan Goncharov, first published in 1859. Oblomov is also the central character of the novel, often seen as the ultimate incarnation of the superfluous man, a symbolic character in 19th-century Russian literature. Oblomov is a young, generous nobleman who seems incapable of making important decisions or undertaking any significant actions. Spoiled as a child to the point of not even being able to put on his own socks, Oblomov is unprepared to deal with the smallest difficulty of adult life. In his fevered dreams he sees the words "Oblomovstchina" ("Oblomovism" or in this translation "the disease of Oblomovka") in flaming letters on the ceiling putting a name to the disability of which he is all too aware.This romantic novel was considered a satire of Russian nobility whose social and economic function was increasingly in question in mid-nineteenth century Russia, and from it the word "Oblomovstchina" entered the Russian vocabulary. (Summary by Wikipedia and Kevin Davidson)Note: This 1915 edition was abridged by the translator.
Newest Oldest Longest Shortest Random ×
Welcome to сайт!
сайт is scanning the web for high-quality podcasts for you to enjoy right now. It"s the best podcast app and works on Android, iPhone, and the web. Signup to sync subscriptions across devices.
Take it with you
Start listening to #Oblomov by GONCHAROV, Ivan on your phone right now with сайт"s free mobile app, the best podcasting experience on both iPhone and Android. Your subscriptions will sync with your account on this website too. Podcast smart and easy with the app that refuses to compromise.
""THE best podcast/netcast app. Brilliantly useful, fantastically intuitive, beautiful UI. Developers constantly update and improve. No other podcast/netcast app comes close.""
""Excellent app. Easy and intuitive to use. New features frequently added. Just what you need. Not what you don"t. Programmer gives this app a lot of love and attention and it shows.""
""Store house of knowledge""
""Thank you for giving me a beautiful, podcast streaming app with a great library""
""Love the offline function""
""This is \"the\" way to handle your podcast subscriptions. It"s also a great way to discover new podcasts.""
""It"s perfect. So easy to find shows to follow. Six stars for Chromecast support.""
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) - великий русский писатель, публицист. Являлся членом-корреспондентом Петербургской академии наук и обладал чином Действительного статского советника.
Это известная фигура в русской литературе, выдающаяся личность.
Детство и юность
Иван Гончаров родился в 1812 году в городе Симбирске в семье купца. Там же и проходило его детство, в большом имении отца в центре города. Как известно, это является родиной Ленина и Карамзина. Впечатления об отчем доме, саде и дворе, о барском быте во многом послужили написанию его произведений и автобиографического рассказа "На родине".
Будучи семилетним ребенком, Гончаров потерял отца и стал воспитываться матерью и крестным отцом, отставным моряком. Фактически он заменил отца будущему писателю, дал ему образование и сформировал мировоззрение.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, мать настояла на его обучении в Москве в коммерческом училище. Учеба ему была малоинтересна и давалась очень тяжело. Поэтому спустя 8 лет Гончаров просит мать подать прошение об отчислении, а в 1831 году поступает в Московский университет на факультет словесности. Одновременно с Гончаровыс в этом университете получали образование Белинский, Герцен и Тургенев. Обучение там является важным стартом в его творчестве. Он успешно получает образование, знакомиться с интересными людьми.
Жизнь после университета: начало творческого пути

После окончания университета в 1834 году Гончаров отправился на родину. Увиденное его очень поразило и огорчило, так как в деревне ничего не поменялось. Писатель привык к жизни в столице, она его манила и вдохновляла. Сонный город и его жители не давали никаких перспектив, но Гончаров остается в Симбирске, принимая предложение по работе местного губернатора. Иван Александрович остается на родине в должности секретаря. Работа была скучной и неблагоприятной, зато приобретенные навыки и знания бюрократической системы в будущем очень помогут писателю.
Проработав в Симбирске около года, Гончаров решается на переезд в Петербург, где устраивается переводчиком в министерство финансов. В столице писатель строит свою жизнь заново, самостоятельно и усердно. Новая должность его не обременяла, она была высоко оплачиваемой и не сложной. Позднее Гончаров знакомится с Майковыми, где нанимается репетиром словесности и латыни для старших сыновей.
Знакомство с Майковым по праву считается началом творческого пути Гончарова. Именно в это время он знакомится с Белинским, часто бывает у него в гостях и в доме Литераторов. Одним из первых произведений Гончарова было "Мильон терзаний", написанное в стиле романтизма, и получившее высокую похвалу от знаменитого критика. Белинский восхищался техникой и стилем письма, словестными оборотами и талантом в целом молодого литератора.

1847 году в журнале "Современник" Гончаров публикует свой следующий рассказ - "Обыкновенная история".
В 1855 году свет увидел еще одно произведение - "Фрегат Паллада", написанное под впечатлением кругосветного путешествия с вице-адмиралом Путятиным.
Работая в министерстве финансов цензором, писательская и творческая деятельность Гончарова прогрессивными слоями общества воспринималась неоднозначно. А постоянная нехватка времени не давала писателю закончить свое произведение "Обломов". Поэтому Иван Александрович уходит из министерства и полностью посвящает себя творчеству.
Расцвет творческой деятельности и последние годы жизни писателя

В 1859 году Гончаров все же заканчивает написание романа "Обломов", которое принесло ему особую славу и уважение. Писатель совершил художественное открытие, раскрыв судьбу человека не только как социального объекта, но и придавая этому философский характер.
Гончаров не гнался за славой, поэтому сразу же начинает работу над новым романом под названием "Обрыв", это детище от растил почти 20 лет. И это последнее его крупное произведение.
Последние годы жизни писателя сопровождались болезнями и душевными депрессиями. Закончив работу над "Обрывом", Гончарову стало жить еще тяжелее. Новые романы он писать не стал, только маленькие очерки ("По восточной Сибири", "Поездка по Волге", "Литературный вечер" и прочее).
В 1891 году И. А. Гончаров скончался от воспаления легких, в полном одиночестве, похоронили его на Никольском кладбище, и практически сразу опубликовали некролог в "Вестнике Европы", где называли Гончарова лидирующим писателем литературы.известная фигура в русской литературе, выдающаяся личность. Интересным фактом является то, что дата рождения писателя совпадает с датой рождения Пушкина и вводом войск Наполеона на территорию России.
Своими руками